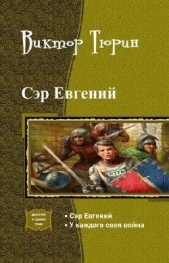Распутин
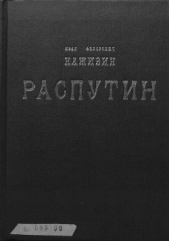
Распутин читать книгу онлайн
Впервые в России печатается роман русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940), который после публикации в Берлине в 1923 году и перевода на английский, немецкий и чешский языки был необычайно популярен в Европе и Америке и заслужил высокую оценку таких известных писателей, как Томас Манн и Сельма Лагерлеф.
Роман об одной из самых загадочных личностей начала XX в. — Григории Распутине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— В чем же я провинился? — садясь, с улыбкой спросил государь.
— Строгости всё не показываешь, добёр больно ко всем, вот в чем… — говорил Григорий, макая куском ветчины в горчицу. — Царь ты али нет?
— Должно быть, царь… — с улыбкой сказал Николай.
— А тогда и будь царем! — твердо сказал Григорий. — Нешто с нашим народом добром что сделаешь? Наш народ облом, сиволапый, дуропляс — он только строгость и понимает… Налей-ка, мама, кофейку ему… — подвинул он царице свою чашку. — Он будет кофий пить, а я его ругать буду.
— Ругай, пожалуй, но кофе я пил уже, спасибо… — сказал Николай.
— Ах, Ники, выпей! — обратилась к нему жена, глядя на него влюбленными глазами. — И непременно из его чашки… Это принесет тебе пользу. Ну, для меня… немножко?..
— Да хорошо, милая… С большим удовольствием…
— Вот так-то вот!.. — проговорил Григорий как бы примирительно. — Пей-ка на здоровье… А что брехунцов твоих в Думе ты распустил, это верно. Такое городят, что нам, мужикам, и слушать совестно. Кто же хозяин-то в Расее — ты али они? Разгони всю эту сволоту по домам да и правь Расеей, как твой отец правил: пикнуть никто не моги, дышать без моего дозволения не смей, а не токмо что!.. Наш народ дуролом… И опять же, что в загранице скажут, ежели прочитают, как эти ветрогоны твоих министров страмят?
Николай, прихлебывая из чашки Григория уже немного остывший кофе, внимательно слушал, но слова Григория — как и вообще всякие слова — только скользили по поверхности его души и не возмущали ее полного и глубокого ко всему безразличия. Он с покорностью принимал выпавшую на его долю роль самодержца всероссийского, искренне верил, что такова воля Всевышнего, и старался по мере сил исполнять все свои обязанности.
Когда раз во время японской кампании ему докладывали о страшном поражении, вновь понесенном русской армией, он глядел своими пустыми голубыми глазами в окно на легко порхающий снежок и, вдруг прервав своего собеседника, проговорил:
— А хорошо бы, знаете, поохотиться сегодня…
Но приезжал он на охоту, ставили его на лучший номер, и он пропускал мимо себя равнодушно десятки зайцев и фазанов без выстрела, и распорядитель охоты, горячий великий князь Николай Николаевич, которому лестно было иметь хорошую штреку, рвал и метал все свои громы. А если подавали царю новую лошадь — выбирала ее целая комиссия и выезжал ее особый берейтор, вкладывая в дело всю свою душу, — царь садился на эту лошадь и даже словом не благодарил он бедного взволнованного берейтора: он не замечал, что ему подали новую лошадь…
Когда в 1906 году в Кронштадте вспыхнуло опасное восстание во флоте, он принимал у себя А. П. Извольского. Тот был поражен удивительным спокойствием царя при его докладе — доклад этот происходил под отдаленный грохот орудий, бивших по восставшим кораблям, — и позволил в почтительной форме выразить государю это свое удивление: ведь в эти минуты решается, может быть, судьба династии и России!
— Вы меня видите таким спокойным потому, — отвечал государь, — что я твердо верю, что судьбы России, моей семьи и моя собственная в руках Всевышнего, который поставил меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни произошло, я преклонюсь пред его волей в сознании, что у меня никогда не было мысли другой, как о том, чтобы служить стране, которая мне была вверена…
Это служение стране он понимал в том, чтобы выслушивать доклады, в которых его большею частью обманывали, скрывая истинное положение дел, принимать парады гвардии и вообще войск, перемещать чиновников с одного места на другое, давать им всякие награды, посылать всякие телеграммы соседним государям, принимать их визиты и отдавать эти визиты, присутствовать иногда на заседаниях Государственного Совета и подписывать его решения. Живая и разнообразная жизнь для него подменялась бесчисленным количеством бумаг, и, подписывая эти бумаги, он был твердо уверен, что он управляет многообразной жизнью огромной страны, которая ему была вверена, — если не был твердо в этом уверен, то по крайней мере старался делать вид, что он в это верит. В душе же он не был царем, правителем ни на йоту: власть и люди тяготили его, сложного механизма управления и потребностей России он не понимал совершенно, и в тихие минуты, когда его оставляли в покое, он с наслаждением мечтал о том, как было бы хорошо все это бросить и уехать в милую Ливадию, разводить бы там цветы, которые он любил, наслаждаться морем и в особенности полной свободой от людей. Та сила, которая в течение трех веков двигала его предков на часто кипучую деятельность, в нем была совершенно изжита, он был не царь, а призрак царя, и корона была не усладой для него, а тягчайшей обузой. Он ничего не знал, ничем долго не интересовался — исключение составляла разве только его замечательная коллекция почтовых марок, над собиранием которой он трудился долгие годы, — всем тяготился и решительно ничего не хотел, как только того, чтобы его оставили в покое. Изредка в нем поднималось желание что-то такое сделать — хорошее, честное, разумное, — что было бы России на пользу, но сразу же пред ним вставало столько препятствий, до такой степени сложна и непонятна была обстановка всякого дела, что он никак не мог найти одного решения: он видел их сразу несколько, и все они были хороши, и все они были плохи, и он колебался без конца и не знал, на чем остановиться, а выбрав что-нибудь, убеждался, что выбор неправилен, несовершенен, и менял свое решение опять и опять. Лидеры оппозиции высмеивали эти его колебания и видели в них несомненный признак глупости, между тем, как ни велики и многочисленны были его недостатки как царя, в этом он как человек, пусть даже очень недалекий, был неизмеримо выше своих критиков и врагов, людей самоуверенных до наглости, которые воображали наивно, что они очень умны и что они лучше всех все знают и понимают и могут облагодетельствовать народ, к власти над которым они так рвались. И наткнувшись На эти бесчисленные препятствия, на эту тяжелую сложность дела, государь быстро охладевал к своим планам и забывал их. Без всякой злобы, совершенно равнодушно он выкрикнул, смущаясь, свои знаменитые бессмысленные мечтания — так, как отвечает ученик подсказанный ему и совершенно не интересный ему урок, — и он, человек совсем не злой, из огромных окон Зимнего дворца совершенно спокойно смотрел чрез Неву на Петропавловку, где в ужасных казематах томились и сходили с ума живые люди, его враги, и он, слушая или читая доклад о новой голодовке в России, — они, эти голодовки, повторялись из года в год — как-то совсем забывал, что в Англии у него хранятся миллиарды рублей русского золота, которые он с великой пользой для народа и для себя мог бы употребить на борьбу с этими голодовками, и, прочитав доклад о доблестном поведении гренадеров в какой-то карательной экспедиции, посланной для усмирения волновавшихся крестьян, он на докладе этом спокойно писал: «Молодцы гренадеры. Так и надо…» — писал совсем не потому, что он это думал, а потому, что от него ждали, чтобы он что-то такое там написал именно в этом духе. И чтобы не обмануть ожиданий близких, чтобы понравиться, чтобы показаться им царем энергичным и деловым, он и писал свои похвалы доблестным гренадерам. И все восхищались его резолюциями и укрепляли его в мысли, что это именно так и надо. Но как только он оставался опять один, в нем рождалось подозрение, что он в сущности ничем не управляет, что его значение в жизни страны так же мало, как мало значение сухого листочка, упавшего с дерева в море, для жизни этого моря. И тогда он охладевал ко всему: и к одобрению окружающих, и к молодцам гренадерам, и к грохоту далеких пушек Кронштадта, бивших по восставшим кораблям. Будет то, что будет, — на все воля Всевышнего… В довершение всего он давно уже, с первых шагов почувствовал себя под властью какого-то рока: ему не было удачи решительно ни в чем. Был предположен веселый народный праздник — кончилось, даже не начинаясь, страшной Ходынкой. Захотел он стать твердой ногой на Великом океане, дать России новую силу и новую славу — кончилось ужасающим бесславием японской войны, постыдной контрибуцией, потерей русской территории. Много лет страстно желал он с женой наследника — тем более что качества его брата Миши как возможного правителя были слишком хорошо известны ему, — и наследник родился со страшной болезнью, от которой спасал его только Григорий. Он оробел, он боялся действовать, потому что, претворяясь в жизнь, его добрые намерения превращались в несчастье и для него, и для России…


![Сэр Евгений [СИ]](/uploads/posts/books/35451/35451.jpg)