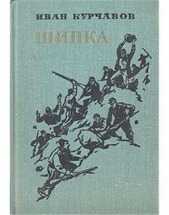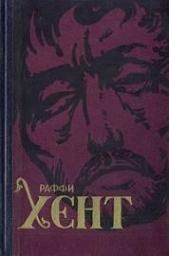Плевенские редуты

Плевенские редуты читать книгу онлайн
Роман "Плевенские редуты" дает широкую картину освобождения Болгарии от многовекового турецкого ига (война 1877–1878 гг.).
Среди главных героев романа — художник Верещагин, генералы Столетов, Скобелев, Драгомиров, Тотлебен, разведчик Фаврикодоров, донские казаки, болгарские ополченцы, русские солдаты.
Роман помогает понять истоки дружбы между Болгарией и Россией, ее нерушимую прочность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На глаза у нее навернулись непрошеные слезы… Особенно тяжким испытанием для Александры Аполлоновны были стычки с начальником госпиталя Хламовым. Желчный, придирчивый, подозрительный, он изводил Чернявскую, как, впрочем, и всех своих сотрудников, мелочной опекой.
Сын богатого московского купца, Леопольд Хламов окончил военно-медицинскую академию, но пошел по линии административной. Дослужился, не без помощи папаши, до полковничьего звания и стал начальником тылового госпиталя, так как на фронт не рвался.
Леопольд Карпович упивался властью над каптенармусами, вахтерами, дежурными служителями, смотрителями, кастелянами, простыми и классными фельдшерами и, конечно же, над врачами. С особым удовольствием всегда произносил он свое имя и звание, с эдаким прононсом, из-за хронического насморка. Чернявскую он невзлюбил сразу, считая ее обузой, порождением дурного веяния, дурного времени, и, где и когда только мог, давал ей почувствовать свое отношение.
Он вдвойне был противен Александре Аполлоновне еще и потому, что она видела нечистоплотность Хламова в делах финансовых.
Все суммы, ассигнованные на госпиталь, как, впрочем, и продовольствие, шли через его руки, в значительной части прилипая к ним. Но Хламов считал это таким же естественным и закономерным, как свои узенькие белые погоны. Так положено. Хотя нет, однажды у него был приступ самобичевания.
Подвыпив, Хламов исповедовался дежурному врачу, проспиртованному старичку:
— Больше всех на свете ненавидит и презирает Леопольда Карповича Хламова за его мерзкую натуру один человек — это сам Леопольд Карпович Хламов.
Но от подобных пароксизмов искренности окружающим легче не становилось.
…Наконец наступил час операции. Это было вскоре после того, как в госпиталь хлынула волна раненых при форсировании Дуная. Операционную комнату, выкрашенную масляной краской, наполнили паром для очистки воздуха от пыли.
Чернявская давала Верещагину хлороформ, держала его руку, когда он, по просьбе Склифосовского, начал счет.
Василий Васильевич был настолько сильным человеком, что долго называл цифры, прежде чем наркоз подействовал.
Потом пошли дни тревог за его жизнь.
Чернявская отучала Василия Васильевича от морфина, хотя видела, как сильны боли, и сама страдала.
Особенно запомнила Александра Аполлоновна одну отчаянную ночь. Она дежурила у изголовья Верещагина. Подскочила температура, он бредил, кричал «Подрывай!». Часа в три ночи вдруг пришел в себя и, приподняв над подушкой голову со слипшимися волосами, спокойным голосом попросил:
— Александра Аполлоновна, запишите мое завещание.
— Ну, что вы придумали, Василий Васильевич, — стала она отговаривать, — к утру вам станет лучше, давайте выпьем жаропонижающее.
— Нет, — настаивал он, — я вам продиктую.
Тускло горела ночная керосиновая лампа. Тени притаились по углам большой палаты, страшно, было записывать его слова.
Вот когда узнала Чернявская, что жену его зовут Лизой… Элизабет… Елизаветой Кондратьевной. Захлестнутый волной бреда, он звал:
— Лиля!
Напоминал о каком-то совместном их путешествии на Гималаи… Потом снова приходил в себя.
В завещании приказывал отдать часть денег на открытие художественных общедоступных школ.
И опять начинал бредить, метаться: «Ты простишь, Лиля, что я так деньги… Нам с тобой… никогда не нужны были экипажи, лакеи… Ты простишь?»
Под утро ему привиделись огромные подземные пещеры, налитые буйным красным огнем. Постепенно огонь смягчился, спадал, Верещагин почувствовал блаженный покой и уснул. Боль исчезла, тело отдыхало.
Лишенный веса, он словно парил над землей, проплывая мимо видений детства. Все было цветным. Их небольшое поместье Пертовка на Шексне. Деревянный дом с мезонином. Платок крепостной няни Анны Ларионовны: тройку, запряженную в сани, преследует волчья стая. Сама няня — высокая, худощавая, с коричневым усохшим лицом — сидела за прялкой. В людской пахло овежевыпеченным хлебом. С детства был Вася свидетелем и насильственных свадеб, и рекрутчины, хотя отец знавал Грибоедова, владел многими языками…
А вот он мальчиком, и тоже в людской, возле свечного огарка, запойно читает в журнале «Звездочка» наивные рассказы писателя Чистякова о временах татарского ига.
Потом возникло бурачного цвета лицо пожилого учителя рисования в кадетском корпусе — господина Кокорева — лысого, с носом грушей и огромной дутой серьгой в ухе. Он оценивал рисунки Васи самой низкой оценкой, неизменно бурчал:
— Грязно!.. Карандаш не умеете держать.
И тайное чтение Герцена за вешалкой, между шинелей… И проба карандаша…
Откуда-то из темноты появился гардемарин Верещагин после окончания с отличием Морского корпуса. В блистательной форме прапорщика: треуголка, мундир с аксельбантом, сабля. Предстояла служба в гвардейском экипаже. Он проносил эту роскошь один день и подал в отставку… «по состоянию здоровья». А в действительности потому, что уверовал в себя как в художника, почувствовал: вот его призвание. Сможет стать правдописцем, показывать неприкрашенную истину!
…Василий Васильевич проснулся, словно от толчка, и сейчас лежал с открытыми глазами. Вероятно, возвратился с того света. Оглядывая свою недолгую жизнь, что может он поставить себе в вину? Вспыльчивость? Да, но чаще всего в тех случаях, когда осуждал в искусстве чины, отличия, профессорские звания, считая их вредными для художника, лишающими его независимости, попытки царских шавок указать дорогу таланту, а все заурядное ограждать и поощрять. Он был резок, когда сталкивался с несправедливостью. Хотя нет, порой и просто непростительно взрывчат, неожиданно груб. Не очень-то вежливо мог сказать даже незнакомому человеку неприятные вещи. И тщеславен… Как лихо в гранки статьи одного журналиста вписывал хвалебные эпитеты, адресованные… собственной персоне. Пошлость! Но разве не имел права радоваться, слыша о себе отзывы Стасова: «Он глаза нашего искусства» или Репина: «Свежесть взгляда… чудеса колорита… богатырь… скиф Васюта».
Верещагин усмехнулся: «Ну, скиф-то во мне наверняка сидит». И, вероятно, тот же Стасов справедливо сказал как-то: «Не сердитесь, но порой вы напоминаете мне степного конька, что задувает по полю, распустив гриву и хвост, ничего не слыша и не видя».
В чем еще грешил? Может быть, проявлял недостаточную нежность к заботливой, преданной Лиле? Но, что поделаешь, если не было к ней большой любви. Привязанность, признательность, чувство ответственности за ее судьбу. И только. Разве этого мало? А то, что он всегда стыдится проявлять нежность, можно ли поставить в вину?
Шесть лет тому назад, в Мюнхене, женился он на милой, скромной девушке — падчерице маляра Антона Рида. Шокинг! Столбовой дворянин отдал предпочтение незаконнорожденной, бесприданнице! Плевать он хотел на все пересуды!
Элизабет помогала ему, была рядом в самые трудные минуты. Такое не забывается и не предается.
Да, ему выпала нелегкая доля — никогда не принадлежать себе. Это вечное, неутолимое желание рисовать. Помимо воли рука то и дело тянется к карандашу. И потом — ученичество, всю жизнь. Поиск пластики, гармонии, красочной гаммы, неделимой композиции, ритма контрастов… И мучительный разрыв между пониманием, как надо, и тем, как можешь. Вечно ускользающий так и не состоявшийся шедевр… Нет-нет, надобна не бойкость кисти, а ее способность доставать глубину.
Порой завидовал счастливцам, умеющим прожить хотя бы несколько дней бездумно… Как хорошо было на время, вчистую отключаться и просто, наслаждаясь, впитывать синеву неба, мягкие очертания дальних гор, беседу с новым человеком. Без этого неодолимого желания снова испытать судьбу и немедля перенести на бумагу игру красок, необычность линий, неповторимость черт.
С отчаянием называл он себя волом, пожизненным каторжником, но был бы несчастнейшим человеком на свете, лиши его судьба этой сладкой каторги. Раз пишет — значит, живет. Это его дыхание. И какая радость просыпаться с мыслью, что тебя ждет незаконченный замысел. Однажды он даже для себя, написал стихотворение о том, что если бы сатана заключил с ним сделку и за каждый шедевр требовал один его палец, он бы с великой радостью согласился. Но… но… все же оставил бы себе два пальца правой руки, чтобы продолжать писать, увы, не шедевры.