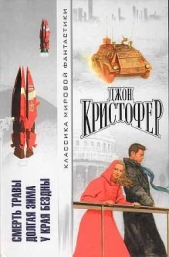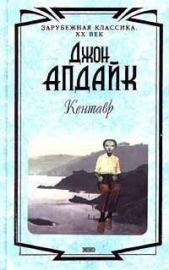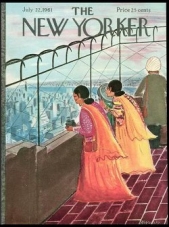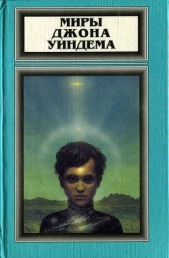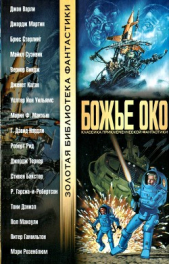Рассказы о Маплах
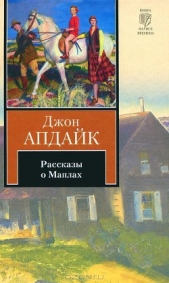
Рассказы о Маплах читать книгу онлайн
Трагикомическая семейная сага о жизни Ричарда и Джоан Мапл. Цикл рассказов, который Апдайк писал — ни больше, ни меньше — несколько десятилетий, вновь и вновь возвращаясь к любимым героям. Счастливые и трудные времена. Дети. Измены. Отчуждение. Вражда. Развод. Ненависть. От любви до ненависти — один шаг. От ненависти до любви — тоже. Но… когда и почему этот шаг делается? Впервые на русском языке — все рассказы о Маплах в одной книге!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обдумав приглашение, они решили, что она сможет отсутствовать до одиннадцати. Но уже к десяти тридцати у него начало пошаливать сердце, бурбон лился бойко, словно вода, он вдруг оказывался посреди комнаты, не помня, как вошел в дверь. Купленная вместе во Франции тарелка с репродукцией Пикассо. Свалка из студенческих антологий на полках. Хаос из детских учебников и игрушек — следы вечерней возни… В одиннадцать ноль пять он подошел к телефону, взялся за трубку, но так и не смог набрать номер, который жил в его пальцах, словно музыкальная фраза. Ее номер. Их, Мейсонов, номер. В доме, проглотившем его жену, ему всегда было удобно, он всегда являлся там желанным гостем, тот дом очень походил на его собственный, но при этом настолько отличался каждой мелочью, что вызывал острый интерес. Хозяйка этого дома в одиночестве ждала его, стоя, нагая, наверху лестницы. От такого приема у него шла кругом голова, ее плечи озаряло заглядывавшее в окно утреннее солнце, вся ее плоть пылала огнем.
Он отправился наверх, навестить спящих детей, в надежде убить так еще полчаса. Но, снова спустившись в кухню, обнаружил, что прошло всего пять минут. Отказавшись от бурбона, чтобы не захмелеть, он попытался разозлиться. Было бы недурно расколотить стакан, но убирать все равно пришлось бы ему самому, поэтому пустой стакан остался цел. Ему всегда было трудно рассердиться. Еще ребенком он понял, что сердиться не на кого, вокруг него только усталые люди, старающиеся сделать приятное, спящие и бодрствующие добрые сердца, завернутые во вселенную, которая, судя по присущим ей красотам и заразному воздуху свободы, тоже как будто имела самые благие намерения. Чтобы ускорить течение времени, он попытался заплакать, но получились только смехотворно сухие слезы человека, томящегося в одиночестве. Чтобы не разбудить детей, он вышел наружу, на задний двор. Сквозь сбросившие листву кусты он смотрел, как несутся домой машины со встреч, из кино, со свиданий. Он воображал, что в этот раз узнает фары ее автомобиля, прежде чем она свернет к дому. Но двор по-прежнему тонул в темноте. Движение ослабевало. Он вернулся в дом. Часы на кухне показывали одиннадцать тридцать пять. Он подошел к телефону, долго на него смотрел, удивленный связанной с этим аппаратом трудностью, невидимым замком, неподвластным его пальцам. И за этими мыслями пропустил появление машины Джоан. Когда он поднял глаза, она уже шла к нему под кленом, оставив в темноте остывающий автомобиль. На ней было белое пальто. Он открыл кухонную дверь для приветствия, но побуждение обнять ее, приголубить, как сердце, совершившее круг и вернувшееся на место, вдруг показалось нелепым, картинным и никчемным, настолько его обезоруживала ее естественность.
— Как все прошло? — спросил он.
Она ответила стоном.
Обоим страшно трудно давалась каждая фраза. Это была настоящая агония!
— Бедняжки! Бедная Джоан! — Он вспомнил, как агонизировал сам. — Ты обещала вернуться к одиннадцати.
Она сняла в кухне пальто и бросила его на табурет.
— Знаю, но встать и уехать было бы слишком грубо, они оба так добры, просто источают любовь. Ты не представляешь мое огорчение. Но на них невозможно сердиться.
С горящим лицом, с сияющим глазами она бросилась к стойке, где ее ждал бурбон.
— Можешь сердиться на меня, — предложил он.
— Я слишком устала. Даже не знаю, что подумать. Они такие ласковые! Он не зол на тебя, ей не приходит в голову, за что мне злиться на нее. Может быть, я сошла с ума? Налей мне выпить.
Она плюхнулась на кухонный табурет, прямо на свое пальто.
— Они похожи на моих родителей, — сказала она. — Верят в человеческое совершенство.
Он подал ей стакан и произнес:
— Она бы не позволила тебе сердиться.
Джоан пригубила и вздохнула. Она была как актриса только что со сцены, ее жесты еще отягощала театральная избыточность.
— Я ее спросила, как бы она себя чувствовала, и она ответила, что была бы рада, если бы я спала с ним, что ни с какой другой женщиной она его не представляет, что я была бы ее подарком, преподнесенным ему от любви. Она упорно называла меня лучшей подругой и все время повторяла это своим утешающим голосом. Сама я никогда не представляла, что она такая хорошая подруга. Весь год я чувствовала это напряжение между нами и теперь, конечно, знаю почему. Весь год она подступала ко мне с этим непонятным для меня проказливым высокомерием.
— Ты ей очень нравишься, мы много говорили о твоей реакции. Она ее боялась.
— Она твердила мне: «Разозлись!» — и из-за этого я, конечно, не могла на нее злиться. Этот ровный спокойный голос… Думаю, она не слышала ни одного моего слова. Я видела, как она сосредоточена на моих губах, а сама постоянно обдумывает свои дальнейшие слова. Она целый год вынашивала эти речи. У меня оголен каждый нерв, не наливай мне больше бурбона.
— А он?
— Он и подавно сумасшедший. Все время твердил, что это «откровение». Уверена, что после того, как она ему призналась, у них наладился отличный секс. Он все время повторял такие слова, как понимание, сочувствие, взаимопомощь. Это было, словно в церкви, а ты знаешь, как я ерзаю в церкви, как начинаю реветь. Стоило мне попытаться заплакать, он целовал меня, потом ее, полная беспристрастность. Клюнул туда, клюнул сюда, как будто мы с ней — один человек. Она похитила мою индивидуальность!
Она возмущенно подняла стакан со льдом и брови. Казалось, даже волосы встают у нее дыбом. Однажды она описывала ему, как во время игры в гольф, пропустив удар, слышала шелест своих топорщащихся от злости волос.
— У тебя волосы гуще, — польстил он ей.
— Спасибо, уж тебе ли не знать! Он все время порывался позвать тебя. Все твердил: «Давай пригласим сюда к нам старину Ричарда, этого сукиного сына! Я соскучился по старому соблазнителю». Мне приходилось снова и снова ему объяснять, что ты должен сидеть с детьми.
— А как же мое мужское достоинство?
— По-моему, насчет мужского достоинства тебе пока что лучше помолчать.
— Ты бы видела, как я тут тебя дожидался! То и дело подбегал к окнам, настоящая курица, растерявшая своих цыплят. Я жутко за тебя волновался, милая. Напрасно я отправил тебя к этим ужасным людям слушать их нотации.
— Никакие они не ужасные. Ужасный ты! Твое счастье, что они не верят в войну. По их мнению, гневаться глупо. Это, с их точки зрения, ребячество. У них тяга все растолковывать. Он постоянно возвращался к тому, что из этого выйдет какая-то большая польза.
— А ты? Ты веришь в войну или в большую пользу?
— Не знаю. Я бы поверила в еще одну порцию бурбона.
Следующий его вопрос был обжигающим, память о свете, окружавшем их тогда, ошпарила ему язык.
— Ей тоже хотелось, чтобы я пришел?
— Она об этом не говорила. Хватило такта.
— Я и не считал ее бестактной, — выпалил он.
Волосы взлетели надо лбом Джоан, она развела руки, как солистка сопрано, начинающая арию.
— Почему ты с ней не сбежал? И почему не сбегаешь теперь? Сделай что-нибудь. Я больше не вынесу таких семинаров или актов свального греха — не важно, как это называется. Они твердят: нам надо быть вместе, надо держаться друг друга. А я ни с кем не хочу быть вместе!
— Но ведь это ты… — начал было он.
— Не жалей льда! — перебила она.
— Как будто мне больше всех надо! Знаешь, как мне не понравилось сегодня дома без тебя? Больше, чем я мог представить…
Он говорил очень осторожно, глядя на стойку, когда наполнял оба стакана, которые, как ему вдруг показалось, могли вот-вот опрокинуться в пропасть. Благополучное возвращение Джоан вдруг открыло ему всю невосполнимость утраты той, другой. Больше всего ему не хватало ее ровного, примирительного голоса.
Разнузданный Эрос
Дом Маплов полон любви. Шестилетняя Бин любит собачку Гекубу. Восьмилетний Джон, ангелоподобный мистик, не умеющий ездить на велосипеде и различать время на часах, влюблен в героев мультиков, в чудищ с открыток, в свою коллекцию динозавров и в деревянную фигурку носорога из Кении. После школы он проводит в своей комнате долгие часы, раскладывая все эти предметы то так, то эдак, любуясь ими и что-то мурлыча себе под нос. Больно ему бывает только тогда, когда его старший брат Ричард врывается к нему в комнату, заряженный скепсисом, и рвет его плаценту довольства. Сам Ричард-младший питает любовь к жизни и вообще ко всему миру, включая Карла Ястржемского, Бейба Парили[13], хоккеистов из «Бостон брюинз», группу «Битлз» и ту шуструю персону с расческой и усами из зубной пасты под носом, что пялится на него по утрам из зеркала. Он получает от девчонок вызывающие записки, вроде этой: «Дикки Мапл, кончай на меня глазеть». Он приносит их домой в мятом виде вместе с диктантами и каракулями, считающимися результатами проверки его глаз, зубов и легких. Свое отношение к молоденькой миссис Брайс, предстающей перед его пятым классом с эмалированным личиком и студийной дикцией стюардессы, он высказывает с подозрительной неохотой. Почти не вызывает сомнения его постоянная и глубокая любовь к старшей сестре, Джудит. Ей скоро тринадцать, и она уже неуправляема, даже если инструментом управления выступает кровосмесительная, то есть братская любовь. Она самоуверенно заслоняет от него телеэкран, издевается, когда он слушает «Битлз», дразнит его, не жалеет подзатыльников и вообще находится под влиянием мощного космического излучения. Она часами торчит на углу, около дома мистера Ланта, своего учителя истории, пачкает стены своей комнаты переводными картинками с изображениями группы «Манкис», одаривает мать перед сном французским поцелуем, панически боится бессонницы, надолго устраивает на диване томную возню с собакой. Золотистый ретривер Гекуба, стерилизованная сука, носится из комнаты в комнату, терзаемая жаждой обожания, как блохами, прижимает уши и молотит хвостом, бросается на кошек, которые ее не любят, в конце концов валится в изнеможении на кухонный линолеум, радуясь своему поражению, и засыпает.