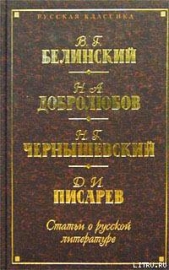«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
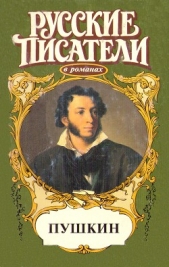
«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин читать книгу онлайн
Этой книгой открывается новая серия издательства «Русские писатели». Она посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лицо точно было дурно, а между тем любовницы его отличались красотой удивительной. Правда, в духе низком... Эта красота, сочная, подобная плоду и, как плод же, осиянная золотой пыльцой, волновала и его — простотой. И Аракчеев успокаивал — простотой.
...Белка, умильно грызущая орех, хрупкость, локоны, рассыпанные в романтическом беспорядке, прозрачные, льнущие одежды, перехваченные поясом высоко у робкой, маленькой груди, а также разговоры о душе, о дружбе, ets. — это была его молодость. Нынче изменилось всё.
Нынче Царскосельские белки грызли свои орехи просто-напросто — неопрятно. Нынче кто только не был им недоволен! Он это чувствовал. Одни жаждали просвещения и для народа тоже; другие — чинов и земель для себя; третьим казалось: чуть не вся Россия должна была быть поделена на ровные клеточки военных поселений...
Прогулки успокаивали. Он шёл, почти искренне не замечая одушевлённости парка, теней, растворяющихся за боскетами, выглядывающих отлично начищенными сапогами, неутомимыми глазами из-за розовых кустов.
Пушкин смотрел в спину царя. Спина была сутулая, мягкая... Странным казалось, что у победителя Наполеона такая спина. Странным было также то, что он направляется в Баболовский дворец этой своей уже слегка шаркающей походкой, а там ждёт его молодая девица, вернее, молоденькая женщина — осчастливленная...
Впрочем, царская спина уже скрылась за поворотом аллеи.
Он повернулся на каблуках и пошёл в другую сторону, сбивая носком сапога мелкие камешки, лежавшие кое-где на розовом чистом песке. Обида не отпускала, но она уже не относилась к молоденькой Вельо и её восторгам. Она относилась к чему-то гораздо большему.
Не таким хотелось ему видеть победителя Наполеона?
Не таким можно было от души восторгаться?
Не такого позволительно было воспевать, хотя бы и в заказанных стихах?
Он разочаровывался в императоре почти так, как разочаровываются в женщине. К тому же он только что ускользнул от Энгельгардта, который затеял разговор о великодушии царя, лучше сказать, о великодушии необыкновенном...
Энгельгардт просил, нет, умолял его измениться... Между тем он не хотел зарекаться, и меньше всего это касалось встреч с гусарами. Там была настоящая мужская жизнь, настоящие мужские разговоры, настоящие поступки. Правда, самые значительные оставались в прошлом или маячили впереди. В Царском Селе разговаривали, воспламеняясь. Самым пламенным оказывался самый холодный на вид — Чаадаев Пётр [39]. У него было фарфоровое, надменно закинутое лицо, за ним знали храбрость абсолютную... Он был аристократ настоящий. То есть человек, считающий себя равным всему живому, хотя бы самодержцу. Но тогда выходило: и всё живое (крепостной, слуга или солдат) могло считать себя равным Чаадаеву, а дальше — царю? Забавно! — как говаривал именно в таких случаях Дельвиг, тихоня барон [40], успевший, кажется, больше него в дружбе с беспокоившимися о свободе, просвещении, дружбе самоотверженной и вечной...
В этом мужском кружке ждали от императора прежде всего отмены крепостного права. Об императоре говорили, что душа его в Европе. Говорили ещё, что после своих частых и длительных отлучек из России по-русски он начинает говорить с запинкой и глуповато. Тогда как по-французски высказывает мысли острые и даже — дельные... Царь становился иностранцем в самый неподходящий момент, оскорбляя национальную гордость: почему, посетив Ватерлоо, Ваграмские и Аспернские поля, пренебрёг поездкой под Бородино, в Малый Ярославец, Тарутино?
В самом деле — почему?
Таковы были отношения с царём — лицейские.
III
Начинались отношения петербургские.
Начиналась петербургская жизнь, поистине оглушительная, да ещё если сравнить с лицейским затворничеством. Ему было восемнадцать лет, и представлялось, он волен во всём: ездить к княгине Голицыной [41] и производить впечатление, вызывая зависть стареющих поклонников прелестной; спорить о судьбах народов и самодержавии в доме братьев Тургеневых и там же написанную оду, нимало не смущаясь её крамольным содержанием [42], давать списывать чуть не каждому пожелавшему; в театре на виду у всех перебрасываться острыми фразами не с каким-нибудь щёголем, подобным себе по чину и годам [43], нет — с генералом Павлом Киселёвым, с Алексеем Орловым, тоже генералом; бегать за кулисы, понимая там себя более своим человеком, чем все эти меценаты на вздрагивающих подагрических ногах, которых, известно, только терпели как приложение к их кошелькам.
Его же любили, он был беззаботно уверен, искренне, хотя руки, упавшие на плечи, отдавали прохладой, а поцелуй — наукой. Мир мельтешил, кружась вокруг прелестной ножки, совершенно при том железно поставленной на носок розовой балетной туфли... Мир огорчал домашней неустроенностью, поздней восторженностью отца, всё ещё вслух и для гостей читавшего стихи и пытавшегося иной раз вести себя так, будто он был ровесник своим детям. А в другой — подозрительного и хмурого.
Извозчик от Невского до Коломны просил восемьдесят копеек [44], отец отказывал ему в деньгах, иногда казалось — не без удовольствия. При этом Сергей Львович взбивал сильно поредевший кок, весь вид его был подскакивающий, он почти кричал:
— Не одно мотовство погубит вас, сударь! Не одно. Рано окунулись вы, рано! — Отцу явно хотелось сказать: окунулись в омут разврата, но он не решался. — Я до седин дожил, но отроду не бывал в тех вертепах.
Сын улыбался:
— Вы о Евдокии Голицыной изволите в таких красках?
— Голицына? Авдотья? Да Бог с ней... — Сергей Львович отходил от юного своего отпрыска боком, оглядываясь явно озадаченный.
Княгиня Евдокия Ивановна Голицына, известная под прозвищем княгиня Ночь, или проще — Ночная Княгиня, была фигурой в Петербурге слишком приметной, к тому же отношение к ней Пушкина засвидетельствовано в прелестных стихах:
Есть и ещё стихи к ней. Пушкин приложил их к оде «Вольность», препровождая оную к Евдокии Ивановне — с кем? И — зачем? У княгини совершенно другие политические воззрения.
Но она была великолепна. А кроме того, как лучшее и приманчивое украшение, ей сопутствовала шумная молва. Образованная, может быть, даже по тем временам учёная, умная, томная, весёлая, сама себе хозяйка при живом муже, гораздая на выдумки, ревниво поддерживающая славу самой оригинальной женщины... А, главное — красавица! Юному поэту она оказывала явное предпочтение, оживляясь с его приходом, даже несколько шаловливо для своих тридцати восьми лет. Николай Михайлович Карамзин и Иван Александрович Тургенев считали подобное оживление неприличным. Точно так же, как совершенно неприличным считали они насмешливые взгляды, какие Пушкин исподтишка кидал в их сторону. Впрочем, они просто ревновали. Женщину? Успех?