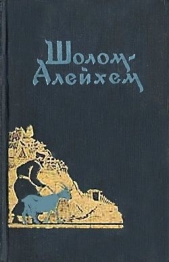Выпьем за прекрасных дам (СИ)

Выпьем за прекрасных дам (СИ) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он всегда обращался к Антуану на «вы» при посторонних людях — и лишь порой наедине, когда говорил с ним не как с человеком, а как с функцией — с новицием, с проповедником, сейчас вот с молодым братом-секретарем. Тот не всегда принимал это правильно — иногда лицо его грустно удлинялось, парень не желал отдаляться… вот сейчас, например. Надо ж иметь такое лицо, которое читать легче, чем огромную Псалтирь, по которой поет весь хор!
— Подумайте вот о чем, брат, — ровно продолжал Гальярд. — Подумайте о словах Писания. Что такое означает — собирать горящие угли на чью-либо голову? Неужели Господь советует нам делать добро, чтобы тем вызвать ужасные мучения у грешников? Неужели не за них он умер — за нас одних?
Антуан сглотнул — по горлу прокатилось круглое «яблочко». Ему приходилось думать над этими словами… о Бермоне-ткаче думать, когда случалось за того молиться. И так-то неудачно…
— Мне пришлось однажды осудить на смерть очень дорогого мне человека, — у Гальярда даже голос не дрогнул. — И осуждая его, я знал — это единственное, что я могу для него сделать. Быть может, только дыхание смерти может отрезвить его, обратить его, как крестная мука обратила Доброго Разбойника. Желаете спасения этой женщине — и другой, которую мы сейчас увидим — молитесь крепче, чтобы нам оправдать невиновных и праведно осудить виноватых! Justicia et misericordia для Бога — две части целого. Не жалейте себя, не позволяйте себе смотреть на временное и отвлекаться от главного. Наш магистр Гумберт пишет о таких, как вы — слишком увлеченных созерцанием и не желающих спасать ближнего, пусть и ценой своего душевного спокойствия.
— Да, отец Гальярд.
— Зло, приведшее их сюда, может послужить добру — как служили конечному добру даже ужасные мучения Господа нашего.
— Да… отец Гальярд.
По лицу Антуана разливалось видимое облегчение, но инквизитору все еще кое-что не нравилось. Не нравилось, с какой готовностью тот поддакивает: словно цепляется за чужие слова, не желая искать своих мыслей.
Но дискутировать было уже некогда. Лоп распахнул наружу тяжелую дверь, пропуская вперед суетливого Франа с огромным подносом. Гальярд внутренне застонал: попросил два глотка вина — а получил целую трапезу, с миской оливок, с нарезанным сыром, даже с дымящейся яичницей на деревянной дощечке…
— Фран! Это еще что за безобразие? Унесите это немедленно прочь!
— Да как же, отцы инквизиторы? Да вы ж с самого утра тут заседаете? Мария ведь старалась, яйца пекла, и сыр — вы не думайте — хороший, вареный, закусите хоть чуть-чуть…
Гальярд схватил кувшин с вином, другой рукой — глиняную чашку; больше рук не осталось — иначе принялся бы выталкивать тюремщика в спину.
— Я просил глоток вина, не более. Остальное унесите! Сейчас допрос будет!
— Так подождет еретичка-то, неужто не потерпит, пока господа инквизиторы перекусят… не графиня, чай, а если б даже и графиня…
— Вон! — рявкнул Гальярд — так, что внизу за решеткой содрогнулось сразу несколько заключенных. Монаху было совестно так грубо обращаться с человеком — но он достаточно хорошо знал свою же южную породу, чтобы понимать: иначе, вежливо, Франа с яичницей отсюда не выпрешь.
Тюремщик даже как-то сник, круглые плечи его опустились.
— Как скажете, отцы мои… Яйца-то я в печь поставлю, чтобы не остыли до вашего прихода…
— Хорошо, Фран, поставьте в печь, — Гальярд попытался подсластить лекарство своей кривой улыбкой, но сделал еще хуже. — И не держите обиды — при исполнении мы… Уходите же! Скорее! — опять почти крикнул он, расслышав за дверью некое движение — но не успел. Охранник Ферран, ведший за плечо худышку заключенную, столкнулся в дверях с собственным начальством и едва не своротил на пол нагруженный снедью поднос. Гальярд молча ждал, пока те разминутся и обменяются положенными репликами — негодующими ли, извиняющимися. На щеках инквизитора горели красные пятна. Отличное начало допроса, ничего не скажешь. Как говорил святой отец Иннокентий графу Раймону Седьмому — благое начало, благой конец…
Воистину, каково начало — таков и конец. То есть хуже не придумаешь.
Грасида молчала. Она замкнулась в молчании наглухо, сидела на стуле, как тряпичная кукла — совершенно неподвижно, скособочившись, будто внутри вместо костей у нее была солома. Губы сжала в белую полоску вроде старого шрама.
Ферран неодобрительно взирал от двери на инквизиторские усилия. Прежде чем работать на инквизицию, он служил в тюрьме муниципальной — и честно не понимал, зачем с дурной девкой так церемонятся. Будь она простой воровкой, каких немало перевидал он на своем веку — так что проще: чтобы добиться признаний, задрать паскуднице подол на шею да всыпать как следует веревочной плеткой, пока не одумается. Причем всыпать там, где и прочие будут видеть и слышать, чтобы и им было в назидание. А тут — подумать только: говорить она, видишь ли, не желает! Такие важные господа священники прохлаждаться, видно, приехали, а не ее, дуру, расспрашивать и время тратить! А эти-то, старый да малый, прости Господи, знай дурака валяют: «Грасида, поверье, Христа ради — здесь вам ничего не грозит… Грасида, мы для того здесь и находимся, чтобы защитить вас, если вы невиновны…» Вот если бы его, Феррана, спросили! Он, старый солдат, сам вырастил двух дочек — родную и приемную, сиротку — братне семя, — и отлично знал, как выбить дурь из зарвавшейся девчонки. Да только его, Феррана, никто не спрашивал.
— Грасида, — терпеливо повторил в сотый раз брат Гальярд. Антуан уже так низко склонился над страницей протокола — сплошные вопросы, вместо ответов — «подозреваемая промолчала», или просто — п. п., потом развернуто допишет… Так низко склонился Антуан, что почти задевал бумагу носом.
— Грасида, ваше молчание ни от чего вас не защитит. Ваша наставница дала достаточно показаний, чтобы осудить вас вместе с нею. Единственное, чего я сейчас хочу — это узнать от вас, насколько она была искренна. И каковы были ваши мотивы участия в ее дурных и, — косой взгляд в протокол, вечная уловка: «инквизитор показывает всем видом, что уже знает о вине вопрошаемого», — и несомненно связанных с ересью деяниях. Я даю вам возможность оправдаться, Грасида. И, может быть, спасти свою наставницу от осуждения.
Молчание. А ты чего ждал. Один раз девочка подняла голову — посмотрела на обоих монахов взглядом, который, наверное, казался ей гордым и ненавидящим и который обвинял ее лучше сотни протоколов… Смертельно испуганный, затравленный взгляд. Собачка, у которой отняли хозяина. А сама-то ты кто, Грасида Сервель? Ведь есть же ты там, за этими галчиными глазами, за преградой сжатых губ? Гальярд видел плохо — но Антуанов молодой взгляд отлично различал, что девочка на табурете крупно дрожит.
— Хорошо, я вижу, сегодня вы не готовы к даче показаний, — Гальярд устало опустил ладони на стол. Не может окситанец говорить — даже допрашивать — не размахивая руками… — Чего вы добиваетесь? Вам так нравится в тюрьме, что хочется сидеть здесь вечно, пока мы будем ожидать вашего благосклонного ответа? Так вот, этого не будет. У вас есть неделя, по ее истечении вы переходите в разряд осужденных. Притвориться немой у вас не получится, я слишком хорошо помню, как громко и красиво вы пели.
Грасида шмыгнула носом. Выдрать, выдрать дуру, мучительно подумал Ферран у дверей — и так громко подумал, что Гальярд словно услышал его мысль и послал ему холодный взгляд. А она ведь ничего, грустно подумал Ферран, опуская глаза. Фигурка худенькая — но на самом деле видно, что где надо у нее все округлое, и личико недурное, и волосы — под солнечным лучом, наконец-то доползшим до ее головки, коричнево-рыжие… Жалко девчонку — ведь погубит себя по дурости своей неизмеримой! А могла бы жить. С парнями миловаться, детей рожать, работать…
— Последний вопрос, Грасида, — Гальярд плеснул в чашку из кувшина, подвинул Антуану, давно уже обводившему губы языком. — Ответьте мне… следствию это не поможет, это, если хотите, глубокий личный интерес. Почему вы, желая, очевидно, меня смутить, при первой нашей встрече решили спеть Gardo ta famillo? Откуда вы его узнали? Зачем спели? Ведь это старый и добрый католический гимн Святой Деве Пруйльской, покровительнице нашей доминиканской обители.