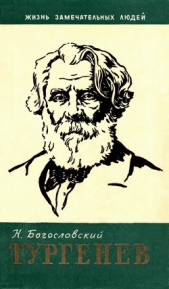Тургенев
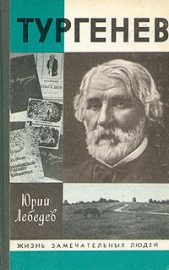
Тургенев читать книгу онлайн
Книга доктора филологических наук, профессора Ю.В. Лебедева посвящена жизненному пути и духовным исканиям великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Эта биография написана с учетом новых, ранее неизвестных фактов жизни и творчества писателя, которые подчас проливают неожиданный свет на личность Тургенева, позволяют глубже понять его мир.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет, нет, я и так засиделся. Мне надо домой. Дочь мадам Виардо больна и в постели. Может оказаться нужным, чтобы я съездил к доктору или сходил в аптеку...
Возможно, в этих воспоминаниях волей-неволей сказалось ревнивое отношение русских друзей Тургенева к семейству Виардо, отлучившему писателя от родины? Однако вот письмо самого Тургенева к Флоберу о сборах в Кан:
«Кан? почему Кан, — скажете вы, мой старый друг, — шутил Тургенев с горькой усмешкой. — На кой черт Кан? — А дело вот в чем. Дамы семейства Виардо должны провести две недели на берегу моря в местечке Люк или Сент-Обен; я отправленвперед подыскать для них что-нибудь...»
Едва ли уместно было такое поручение для уже пожилого человека, страдающего систематическими и мучительными приступами подагры, приковывавшими его к постели на долгие недели и месяцы...
В феврале 1880 года он был в Петербурге, но родной столицы не узнал. Его оставили в «совершенно идиллическом покое», предоставив неизменной подагре-«катковке», которая по иронии судьбы всякий раз навещала его в последние приезды на родину.
Только что состоялось новое неудавшееся покушение народников-террористов на Александра П. Столица застыла в каком-то оцепенении. «Старые приятели ко мне захаживают, новых лиц не вижу — и вместе с целым миром поражаюсь совершающимися событиями», — писал Тургенев Анненкову.
«Старые приятели» намекнули Тургеневу, что в нынешней обстановке ему лучше избегать публичных выступлений, так как он находится на подозрении у правительства. Когда болезнь отступила, писатель, используя свои знакомства, добился разрешения на участие в литературных чтениях: «Мне разрешили читать публично — убедясь в моей голубиной невинности, — сообщал Тургенев Анненкову, — и я встречаю прежний прием, конечно, без венков и адресов, о чем я, разумеется, не печалюсь». Овации в его честь были, очевидно, запрещены.
Особенно запомнилась Тургеневу встреча с сотрудниками журнала «Русское богатство», которая состоялась на квартире Г. И. Успенского. «Речь Тургенева лилась почти безостановочно, а мы слушали, попивая чай, — вспоминал об этой встрече С. П. Кривенко. — Впрочем, не все молчали: кто предлагал вопрос, кто вставлял замечание, а один вступил даже в продолжительный разговор. Это были две полные противоположности: один старик, другой — юноша, совсем почти мальчик; тот седой и высокий, этот черный, как жук, и маленький; тот художник, этот экономист, т. е. сама проза и цифра. Тургенев с большим вниманием вслушивался в то, что говорил этот юноша по фамилии Русанов.
— Вы, Иван Сергеевич, давно живете во Франции и хорошо знаете и ее настоящее и прошлое, вы, конечно, знаете и Россию. Каково же ваше мнение о теперешнем положении вещей у нас, и не думаете ли вы, что у нас на носу революция?
— Я не пророк в своем отечестве, — мягко возражал Тургенев, — и не могу претендовать на предсказание: «Будущее на лоне у богов», — говорил Гомер. Но мне кажется, что Россия далеко не так близка к революции, как Франция прошлого века. Обратите внимание на одно обстоятельство: в то время во Франции было могущественное оппозиционное течение, и все мыслящие люди, несмотря на различие мнений, соглашались в одном: старый дом должен быть заменен новым. А у нас? Есть реакционеры, есть либералы, есть революционеры... крайние прогрессисты, — поправился Тургенев и окинул молодых людей добродушным взглядом, как бы не желая обидеть их, — что между ними общего, что они все согласны уничтожить и что сохранить? А пока нет общего могучего течения, в котором бы сливались все отдельные оппозиционные ручьи, мне кажется, рановато говорить о революции...
— Но именно те, кого вы, Иван Сергеевич, назвали «крайними прогрессистами», и являются той настоящей силой, о которой вы говорите, о которой мечтаете. А что такое либералы? Полное отсутствие энергии, трусость...
Разговор принимал жесткий и неприятный для Тургенева характер. И, по воспоминаниям его участников, писатель незаметно перевел его в конкретный план, заворожил молодых людей поэзией устного рассказа:
— Так ли надо вести дело, как оно ведется теперь, — не знаю. Но что хождение в народ не удалось, это, кажется, очевидно. Да и могла разве удаться пропаганда отвлеченностей социализма людям, вся жизнь которых состоит из перехода от одной конкретной, осязательной вещи к другой: от сохи к бороне, от бороны к цепу, а от цепа иной раз и к полштофу... особливо ежели дело о Покрове или о Рождестве. Если речь, которую вы ведете к мужику, не идет прямо навстречу его конкретным желаниям, он не станет вас слушать... Вон правительство несколько раз принималось внушать, чтобы он не думал того и того-то, а думал то-то и то-то. А мужик все понимал в том смысле, в каком ему хотелось понять... Да, вот, кстати, я расскажу вам по этому поводу один небезынтересный факт. Дело было так. На границе Орловской и Калужской губерний — невдалеке от меня — случился, не припомню точно когда, но вообще вскоре после отмены крепостного права, бунт. Помещик надул уставной грамотой крестьян: отрезал у них самый лучший участок, которым они пользовались крепостными. Те упрашивать барина, жаловаться к мировому посреднику. Последний решил не в их пользу. Мужички забунтовали, то есть, невзирая на отмежевание, отправились пахать под озими спорное поле. Власти переполошились и наделали такого шуму, что об этом дошла весть до государя, который случайно охотился в это время на лося поблизости, в дремучих калужских лесах. Время было горячее, волнения из-за «настоящей воли» вспыхивали повсюду, и царь решил явиться на место и самоличным увещанием подействовать на бунтовавших, а через них, надеясь на стоустую молву, и вообще на крестьян нашей полосы. Бунтовщиков с раннего утра собрали возле церковной паперти: государь известил начальство о скором прибытии. Целый день прошел в напрасных ожиданиях...
Тут Тургенев внезапно переменил тон и с неподражаемой интонацией в неподражаемо народной форме повел рассказ от лица мужика-очевидца, который описал Тургеневу все царское посещение.
— Ждем мы пождем, а царя все нет да нет. Уж солнышко закатываться за лес стало. Отошшали мы, инда тоска на нас напала... Только глядь, по дороге, прямо на нас валит кто-то страшенный, с усами, на коне: как подлетел, как пужанет во все горло: «Такие из-этакие, на колени! Государь едет!..» Так мы и пали ничком, и лежим словно на страшной неделе — Господи, владыко живота моего — и головы поднять не смеем. Много ли, мало ли мы так лежали, только как загогочет кто-то опять: «Государь едет!» Поднял я бочком голову: вижу, не то казаки, не то егеря летят во всю мочь и гигикают, а по дороге, брат ты мой, этак в шагах в тридцати, жарит тройка лошадей, каких и отроду не видывал: копыта — во какие, дуга — во какая, — и Тургенев широко разводит своими мощными руками, — кучер как чудо-юдо бородатое, а в брычке, значит, сидит сам ен, и того больше, шинель серая, фуражка с красным околышем, а голова, ну вот умри я, что пивной котел, ровно у Лукопера богатыря. Прожег мимо нас, как молния какая, крикнул зычно таково: «Стой! — и остановился шагах в пяти от нас. — Вставай, пгаваславные!» — а голос, как труба, только что с картавинкой, как у нашей старшей барышни. Мы вскочили. Стоят царские лошади, что вкопанные, и ямщик, как астатуй какой, сидит, а царь, не слезая, приподнялся, повернулся, значит, к нам с брычки, через верх спущенный, да и начал говорить грозно так сначала, да слова все какие-то мудреные, а потом словно бы смиловался, а под конец опять закричал: «Повиноваться господам помещикам, повиноваться вам им!» Да как подымет руку, да как погрозит нам ба-а-альшущим пальцем, да как крикнет кучеру: «Айда!» Лошади опять, как молния, в гору по дороге, промеж леску, а солнышко уж село, и заря уж погорела, а царь все держится за брычку, стоит к нам обернумши да пальцем грозит, а палец-то евойный — во какой, что столб, — по небу-то огневому качается...» «Ну и что же?» — спрашиваю я мужика, — продолжает Тургенев, убравши свой не меньше легендарного царского палец. «Ну, вестимое дело, и повиновались, только уж и драли нас за это!» — «Как, за что за это?» — недоумевал я. «Да мы, знычит, землю ту у помещика так и отпахали». — «Как отпахали? А разве вы не слыхали, что вам царь-то говорил, чтоб повиноваться помещикам?» — «Эх, барин, мы люди темные, мы рассудили, что накричать-то он на нас только для страху накричал, а что приказ от яво был помещикам, чтоб, знычит, теперь-то уж их благородиям да нам сиволапым повиноваться: буде-ста им над нами мудровать...»