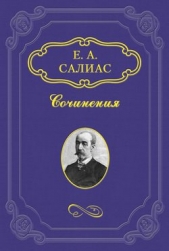Гроза на Москве

Гроза на Москве читать книгу онлайн
В центре романа Ал. Алтаева «Гроза на Москве» — сложные социальные конфликты, семейные драмы, характерные для времени правления Ивана Грозного.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он обернулся к слугам, державшим в руках алый сарафан и все принадлежности девичьего наряда.
— А Федорушке сарафан принесли?
— Слушаю, государь…
Федор Басманов, смеясь и кривляясь, уже надевал голубой летник с длинными рукавами, шитый серебром «на канительное дело», — то есть канителью, в спираль; на голову он надел кокошник с привязанною косою, а на шею жемчужное ожерелье и стоял перед царем, помахивая шитым золотом платком, молодой, статный, с голубыми невинными очами, совсем пригожая красная девица.
Стоял перед царем и Григорий Грязной, все такой же бледный, с мрачным взглядом, с дрожащими от обиды губами. Красный сарафан нелепо повис на его костлявой фигуре, смешно обнажились мускулистые руки из-под кисейной рубахи, девичья повязка сдвинулась набок.
Мокрый, с обвисшей, слипшейся от сладкого вина бородою стоял Гвоздев посреди покоя и, притоптывая разноцветными, в кусочках, шутовскими сапогами, тянул хриплым голосом:
— Пляши, — крикнул царь, наслаждаясь, видимо, унижением и ужасом Григория Грязного. — Да что вас мало? Ступай сюда и ты, Васютка; ты горазд плясать вприсядку. Надевай новый кафтан Оськин! Эй, кафтан для Васи! Гусельников!
Заливались звонкие гусли; под низкими сводами, расписанными библейскими сюжетами, в шутовском наряде плясал вприсядку Василий Грязной; старый Гвоздев припевал, с трудом выделывая коленца присядки, чтобы не отстать от вертлявого Василия Грязного, но ему мешал отвислый живот; борода растрепалась и мокрыми седыми клочьями повисла на груди: он отрывисто, задыхаясь, выкрикивал:
Федор Басманов, закрываясь платком и жеманно улыбаясь, изгибал стан и плыл лебедушкой.
Царь обвел глазами пирующих. Взгляд его остановился на конюшем, старом боярине Иване Петровиче Федорове. Этот боярин не был опричником; за военную славу и седины его уважали даже враги.
Царю хотелось шутить.
— А ты, боярин Иван Петрович, — сказал он с усмешкой, — не хочешь ли с ними поплясать? Гусельники тебе сыграют веселую плясовую.
Боярин встал. Лицо его не дрогнуло. Низко поклонился он царю; солнечный луч упал на его бороду, и она заблестела серебром.
— Здрав будь, государь царь, — сказал он спокойно. — Спасибо за зов, да оплошал я, старый; копье и меч в руках с младых лет держать умудрен, а скоморошьей хитрости не учился, на том не обессудь. Вели голову сложить за тебя — сложу с радостью, а плясать да тешить тебя песнями и всякими шутками, — воля твоя, не по силам мне, да и ноги старые не гнутся…
Царь сдвинул брови и отвернулся.
— Гришка! — крикнул он и махнул рукою.
Григорий стоял молча, тяжело дыша, и в голове его смутно носилась мысль о том, что его сделали посмешищем, что одеваться в девичий наряд стыд и грех, но уйти он не смел. Царь не спускал с него глаз.
— Что же ты стоишь как чурбан? — услышал он царский оклик, и в голосе этом почувствовал нотки нараставшего гнева. Он видел, как рука царя сжимала крепче посох и уже насупились брови, а глаза недобро сверкнули под ними. Григорий сжался и, почувствовав, что от стыда проваливается куда-то в бездну, что теряет последние остатки чести, путаясь в сарафане, поплыл навстречу выделывавшему «коленца» брату.
Но ноги его не держали. Перед ним все ходило ходуном: столы, кубки, опричники, стольники, ходили окна, двери, уходил пол, и вдруг он грохнулся посреди покоя, потеряв сознание.
— Упился, — сказал Гвоздев.
— Вынести его, — приказал царь, — а вы хватит плясать. Я думаю, пора и честь знать. Не вся братия нынче у вечерни будет. Ты больно печалишься об этом, отче?
В голосе его слышалась насмешка. Он, прищурясь, смотрел на Чудовского архимандрита Левкия, маленького человечка с одутловатым от пьянства лицом. Черная скуфейка совсем сползла ему на затылок; осоловелые глазки мигали…
— С тобою государь говорит, — толкнул князь Вяземский Левкия.
Тот встал и поклонился.
— Ты, видно, туг на ухо; поди ближе, — сказал царь.
Левкий подошел и, не поняв, в чем дело, стал говорить льстивые речи.
— От тебя, государя, славы и почести так велики, что всякий басурман рад к тебе идти на службу…
Царь нахмурился.
— То-то и бегут от меня холопы, — сказал он презрительно.
— А кто бежит, государь, — продолжал Левкий, — бежит страдник, пустой человек, из гноища взятый смерд… Тьфу!
Он даже плюнул.
Царь усмехнулся.
— Курбский бежит, — сказал он отрывисто, — не из гноища взятый, а родовитый князь Курбский…
— Смерд твой он, а не князь, государь, — подхватил Левкий, желая сказать царю приятное, — пес смердящий, ирод… Изменник…
Царь закивал.
— Изменник, собака… — прошептал он, и рука его крепче сжала посох.
— А доблесть его и прежде не больно велика, — продолжал Левкий. — Как на Казань ходили, так в ту пору он, князек-то, приотстал да и другим воеводам заказывал не трогать басурман… трусоват был под Казанью он, так вот…
Царь с недоумением посмотрел на монаха.
— Трусоват был Курбский под Казанью? — проговорил он, растягивая слова. — Да в уме ли ты, дурень? Ври, да знай меру!
Царь ударил Левкия в лицо так, что тот покатился; грубая лесть раздражала его. Он встал и осенил себя крестным знамением.
Пир кончился.
И спустилась ночь над слободою Неволею, и зажглись звезды. Три сказителя, один другому на смену, ждали в покое, соседнем с царской опочивальней. С каждым днем усиливалась бессонница царя, и теперь он давно уже не мог спать без их монотонных сказок.
В опочивальне был Малюта Скуратов.
Он стоял перед кроватью и выслушивал последние приказания царя.
— Нынче в застенок я не пойду, Лукьяныч, — сказал устало царь и зевнул. — Притомился я.
— Сосни со Христом, — раздался грубый, хриплый голос, и тяжело падали слова Малюты. — Пошто тебе трудиться?
— Ты уж справься сам, Лукьяныч, да смотри расспроси, кого надо, накрепко… Пуще всего гляди: князя б Курбского не был тот паренек, что попался на дороге нашим людям, да еще: спроси из Литвы перебежчика… Погляди: там у тебя на дыбе ничего не открыл старик, что у брата Владимира Андреевича в Старице в конюших хаживал? Накрепко допроси.
— Слушаю, государь!
— Иди, Лукьяныч. Иди. К заутрени не проспи.
— Иду, государь. А про тех печатников никакого наказа не будет? Ереси, слышь, они будто сеют. На Москве так говорят, да и наши люди о том сказывали. Шурин твоей царской милости, Михайло Темрюкович, сказывает, ереси Матюшки Башкина и других злоучителей сеют. Всякие нечисти у них тоже будто на печатном дворе найдены. А народу соблазн. Не попытать ли их накрепко?
Царь подумал.
— Не надо, Лукьяныч, — сказал он. — Печатный двор я сам строил. Не надо было шурину напускать на него московский сброд. Да и дорого мне стоило то дело: печатников таких не скоро сыщешь; есть смышленый народ в Новгороде, бунтовщики, все псы злые… Ступай, да погоди с печатниками.
Он отпустил Малюту и призвал сказителей.
Было темно, и звезды ярко сияли на небе, крупные летние звезды. И по небу расплывался туманно-серебристый Млечный путь. Ночь уходила…
В тесном теремном покое царевич Иван будил брата:
— Вставай, Федя… петухи давно пропели… Пора к заутрени звонить…
Пухлый семилетний царевич Федор приподнял голову с подушки, посмотрел на брата испуганными глазами и спросонья, отмахиваясь жестом маленьких детей, забормотал: