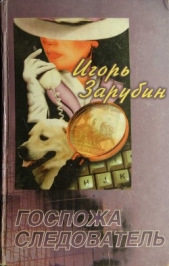Раквереский роман. Уход профессора Мартенса<br />(Романы)

(Романы)
Раквереский роман. Уход профессора Мартенса
(Романы) читать книгу онлайн
(Романы) - читать бесплатно онлайн , автор Кросс Яан
Действие «Раквереского романа» происходит во времена правления Екатерины II. Жители Раквере ведут борьбу за признание законных прав города, выступая против несправедливости самодержавного бюрократического аппарата.
«Уход профессора Мартенса» — это история жизни российского юриста и дипломата, одного из образованнейших людей своей эпохи, выходца из простой эстонской семьи — профессора Мартенса (1845–1909).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
До сих пор Мааде не поднимала глаз, может быть, она смотрела на мои, сжимающие, и свои, сжимаемые, руки. Она ничего не говорила. И только, не глядя на меня, кивнула, когда я спросил ее: «Мааде, а ты помнишь?» Тут она вдруг заглянула мне в глаза и очень тихо произнесла:
— И вы велели мне передать привет отцу и остальным.
Я вздрогнул, ибо понял: и Мааде, по-своему, пыталась ко мне приблизиться… Потом я говорил ей, что ради нее пошел к ее отцу заказать башмаки, и как в сенях и в комнате я смотрел и прислушивался, но ее не было, и как я обращался, встретив ее на тропинке к колодцу. Говорил о том, как ее родители пригласили меня выпить кофе, когда я явился за башмаками, и какой для меня было радостью, когда она принесла на стол блюдо с лепешками, сепик и лук. И в каком радостном волнении я поднял рюмку и пожелал ей всю жизнь проливать слезы только по двум причинам — от лука и от счастья… И про то, как трактирщик Розенмарк положил свою лапищу ей на талию, а меня — ха-ха-ха-ха — передернуло от ревности…
За все время, пока я говорил, Мааде не промолвила ни слова. Когда я спрашивал: «Ты помнишь?» — она отвечала мне наклоном головы. А когда я спрашивал: «Ведь и ты не забыла?..» — она отрицательно качала головой.
Кстати сказать, за свои двадцать шесть лет я уже не раз замечал, как многозначительно умеют женщины молчать. Так, что их молчание кажется необыкновенным и полным какого-то только им известного смысла. Но как молчала эта девушка, как молчала дочь сапожника Мааде, едва заметно улыбаясь, чуть насмешливо, чуть страдальчески, но явно заинтересованно слушавшая, я видел впервые, мне думается, что это было самое значительное и глубокое молчание из всех мне встречавшихся…
В сущности, нравственная заповедь моей семьи церковного звонаря не позволяет мне вспоминать здесь подробности, каким образом я — сам того совсем не замечая, но кое-что все же замечая — уже не только сжимал ее руки, а гладил ей плечи, грудь, как целовал ее, как схватил на руки, а потом уже обнаружил, что мы лежали поверх пыльных овечьих шкур на постели Розенмарка. И как я радовался, что она сопротивлялась и… позволяла все больше. И как в моем растроганно-победном восторге где-то глумилась сатанинская мысль: если бы сам я не знал, к чему мне стремиться, так ее то ослабевающее, то растущее, все усиливающееся сопротивление направляло бы меня, как в игре направляют восклицания: «тепло», «холодно», «прохладно», «горячо».
Потом мы лежали рядом — открытые миру и странно отстраненные от него. С удивлением я ощутил в ноздрях пыльный запах овечьих шкур и услышал за стеной трактирный шум, и прижал к своему лицу пылающее лицо Мааде, счастливый тем, что она со мной. Даже неловко признаться — счастливый до такой степени, что развеялась и совершенно исчезла даже сама тень мысли, только что промелькнувшей у меня в голове: в неожиданной для меня умелости этой девушки был отзвук воспоминания о грешной крови древнего Раквере…
Потом Мааде встала. В сумерках я видел только пятно ее лица и неясное свечение рассыпавшихся волос.
Она тускло сказала:
— Мне нужно идти…
Я сел на край кровати:
— Когда мы увидимся? Нам ведь нужно теперь, когда…
— Я не знаю…
В темноте я подошел к ней. Я схватил ее в объятия. Она отступила к двери и, не поворачиваясь, отперла ее. Я спросил:
— Когда?
Во мне шла извне незаметная, подспудная борьба: чем мне ее считать, эту девушку, — случайностью в моей жизни или великим прибытием, придорожным цветком или домашним садом, которого я наконец достиг, — и здесь же, между постелью Розенмарка и дверьми, я завершил борьбу, я решил, что это мой домашний сад. Я сказал:
— Я пойду с тобой… Нам нужно поговорить.
— Нет, не ходи.
Она робко провела рукой по моим волосам, освободилась из объятия и открыла дверь в вечерние сумерки. И уже на пороге, уже на дворе, уже выйдя, сказала, и мне показалось, что это было слышно во всех домах:
— Я помолвлена с Розенмарком.
Она закрыла за собой дверь, как-то странно открывавшуюся наружу.
Ее слова пригвоздили меня к месту. Поэтому я не побежал за ней и не стал на темной Адовой улице требовать объяснений, что означает ее помолвка. И зачем она мне о ней объявила? И почему сделала это только сейчас?
Я долго стоял в темной комнате, почти касаясь лбом некрашеной двери из вырубленных топором досок, которую она передо мной закрыла. Нет, если она сказала: «Не ходи!» — и заявила, что помолвлена с другим, как же я мог за ней бежать и чего-то требовать? Я продолжал стоять. Запер дверь. И ничего не делал. Ах, да, я зажег свечу и допил початую бутылку — три полных «римлянина», залпом. Но не охмелел. Когда я уже решил, что пойду поброжу по замковой горе или по полям за нею и постараюсь придумать, как мне поступить, в дверь постучали. Бросившись открывать, я опрокинул оба табурета. Это был Рихман.
— Здравствуйте, молодой человек, — Он снял парик… — Я шел от дубильщика Роледера — играл с ним в шахматы — и увидел, что у вас свет. Ведь Розенмарк еще не вернулся. Что вы успели?
Я едва не сказал: «Забылся здесь с невестой Розенмарка и совершенно обессилел», но хотя лицо у меня горело от вина, руки и голова оставались холодными как лед. Так что я ничего не сказал, по-деловому объяснил ему, на чем остановился. Сказал, что завтра еще не успею закончить, но в конце следующей недели все будет готово. И он спокойно пробормотал:
— Ладно. Но где они будут хранить свои копии и эти переложения — их дело. К себе я не возьму. Мне хватает своих. Меня и так уже хотят взорвать.
В это мгновение я был далек от любопытства к давним раквереским делам. Но когда аптекарь повторил то, что уж доходило до моих ушей, я все же спросил:
— Господин Рихман, что это за разговоры о взрыве? Вы еще в первый раз…
А сам я при этом подумал: ладно, если он теперь усядется и начнет рассказывать (похоже, что шахматы не разогнали его скуку), так, слушая его, я смогу остаться со своими мыслями, будто его рассказ — шелест ржаного поля под ночным ветром.
— Разве вы этой истории не знаете?! — воскликнул аптекарь и опустился на стул. — Я полагал, что все раквереские кошки и собаки знают ее. Не говоря о людях.
— Как видите, не знаю. Но теперь надеюсь узнать.
— И должны узнать! Непременно! И должны сделать из нее выводы! Если потом сядете и обдумаете. Итак. Было это весной шестьдесят третьего. Невзгоды города и злость против госпожи Тизенхаузен опять перелились через край. Из этих бумаг вы теперь знаете, что за эти сто лет она не всегда одинаково клокотала. У города были и овечьи времена. И свои овечьи хвосты, которые в те времена заправляли городскими делами. К примеру, в шведское время. Должно быть, при Карле Одиннадцатом, насколько мне известно. Тогда-то часть горожан и написала королю жалобу на Тизенхаузенов, и король приказал своему наместнику Поортену это дело выяснить. Ну сами понимаете, Поортен сюда не приехал. А велел городу прислать к нему, в Таллин, своего представителя. И тут раквереские овцы с перепугу заблеяли: что же будет, если господин Тизенхаузен на нас, бедных, рассердится?! И своим блеянием они загнали смекалистых людей в угол, а к Поортену послали самый длинный овечий хвост. Подхалима по фамилии Сенденхорст. Тот объяснил Поортену, что все недовольство Тизенхаузенами — всего-навсего происки. Что Тизенхаузены самые справедливые господа на свете. Что город живет при них, как крыса в закромах, и требования большей самостоятельности — глупое зазнайство заносчивых лавочников. До сих пор госпожа Гертруда, как только дело идет о требованиях города, козыряет иудиными словами этого Сенденхорста. Вот так. Но бывали и иные времена. Весной шестьдесят третьего года несправедливость со стороны мызы снова вызвала недовольство города. Внуки городских жителей, погибших во время Северной войны, судились с мызой и требовали, чтобы им вернули земельные участки их дедов. Но чаще всего адвокатам госпожи Тизенхаузен удавалось настоять на своем. А кому удавалось отсудить участок и он намеревался строить на нем дом, так его даже близко не подпускали к глиняным и песчаным мызским ямам. Бревна, доставленные горожанами, мыза силой увозила. А из бревен, предназначенных для здания школы, она построила посреди города кабак. Да-да. Это нечто неслыханное. Мыза распахала городские луга, чтобы коровы и лошади городских жителей сдохли с голоду. Ну я-то как аптекарь смотрел на это в известной мере со стороны. Коров я не держал и дома не строил. Я прожил здесь лет двадцать и занимался своим делом. Гнать меня госпожа не намеревалась. Я ведь и мызе нужен. Но тут горожане пришли ко мне за помощью. Потому что в город влилась новая горячая кровь. Вроде этого молодого Роледера. Видите ли, обычно эстонцы, которые в городе еще окончательно не онемечились, в своих требованиях бывают поскромнее и уступчивее немцев. Во всяком случае, с виду. Но этот Роледер, видимо, считал себя уже настолько немцем…