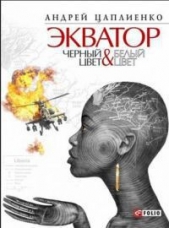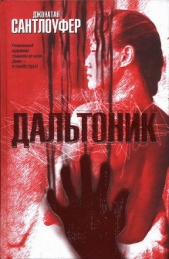Цвет времени

Цвет времени читать книгу онлайн
Отчего восьмидесятилетний Батист В***, бывший придворный живописец, так упорно стремится выставить на Парижском салоне свой «Семейный портрет», странную, несуразную картину, где всё — и манера письма, и композиция, и даже костюмы персонажей — дышит давно ушедшей эпохой?
В своем романе, где главным героем является именно портрет, Ф. Шандернагор рассказывает историю жизни Батиста В***, художника XVIII века, который «может быть, и не существовал в действительности», но вполне мог быть собратом по цеху знаменитых живописцев времен Людовика XIV и Людовика XV. исторический контекст позволяет автору на частном примере судьбы артиста исследовать вечные вопросы творчества в целом.
Франсуаза Шандернагор — признанный мастер-романист и глубокий знаток прошлого Франции, в частности XVII–XVIII веков. Блестящий, отточенный стиль, изысканная, в духе тех времен, лексика, тонкий психологизм делают ее романы столь интересными и убедительными, что от них трудно оторваться. Ибо, повествуя о судьбе отдельного человека, будь она вымышленной или подлинной, Франсуаза Шандернагор ищет — и находит — прежде всего, главную краску, близкую сердцу любого читателя, краску, имя которой — цвет времени.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот когда эта напасть обернулась для В*** полной катастрофой: лишившись милости короля стараниями новой фаворитки, он взамен удостоился благосклонности королевы и ее детей. Считая своим долгом поддержать его, они удвоили число заказов. Но, увы, они не приняли в расчет одну мелочь (сильные мира сего редко опускаются до мелочей): окончательная плата за работу полностью зависела от интендантства… В результате с 1745 по 1755 год В*** работал не столько на французского короля, сколько на чужого дядю! Ибо все, что он писал по заказу «партии королевы», могло быть оплачено лишь с согласия «партии фаворитки»…
«Как выпутаться из этого положения, когда ты всего лишь сын торговца щетками?!» — спрашивал себя В***.
Вот отчего в эти годы он не посмел устраивать скандал в Королевской академии, чья поддержка могла в будущем стать ему необходимой; за всем тем у него не было причин гордиться сыном. Он безропотно забрал его оттуда и отдал в Академию Святого Луки, чья школа прославилась на всю страну, когда Миньяр и портретисты окопались в ней, чтобы бороться с тиранией Лебрена и последних пуссенистов. Нынче там состояли только второстепенные преподаватели и второсортные ученики. Однако на художника можно выучиться всюду, — убеждал себя В***, — ведь и Удри начинал именно в этой школе. А теперь вот стал профессором главной Академии, ни больше ни меньше!
И кстати, об Удри: отчего бы не послать к нему будущим летом его крестника? В Бове, подле своего знаменитого крестного, мальчишка, может быть, все-таки научится писать кроликов с настоящими ногами и куропаток в настоящих перьях! В конце концов, можно прожить и не занимаясь исторической живописью: пока будут дворяне, будут и охотничьи картинки… Луи Прад, который знал Жана-Никола с самого детства и ныне работал помощником Удри на мануфактуре, последит за нерадивым учеником как за младшим братом. И тогда сам В*** может со спокойной душой отправляться в Фонтевро, где принцессы, дочери короля, снова должны позировать для него по просьбе их венценосной матушки. В любом случае хуже всего было бы оставить Жана-Никола в Париже, где он развлекался, жонглируя яблоками и глотая сливы!
Пока отец Полины писал в Фонтевро принцесс, а брат учился в Бове писать кроликов, сама она умерла. О, вовсе не нарочно! Она никогда ничего не делала нарочно. Как никогда не душила нарочно своего братика-близнеца… В последнее время ей было скучно: тщетно она поджидала у дверей Жана-Никола, он не возвращался. Прихрамывая, она доковыляла до комнаты матери, до ее клавесина и погладила его золотистый деревянный бок, а Жан-Никола все не возвращался. Она обратила взгляд на «Семейный портрет», который в конечном счете повесили на стену этой комнаты, и долго смотрела на него, не узнавая людей на полотне; ей так и не удалось понять, что эти холсты, плоские, как простыни, и испещренные красками, изображали трехмерные фигуры: бедняжка распознавала образы не лучше чем буквы в книгах. Она совсем заскучала. Принялась напевать «Ешь, Полина», в надежде, что эта мелодия в конце концов приведет к ней Жана-Никола.
И вот однажды, пока горничная в людской бранилась с лакеем, который выпивал в обществе кухарки, она решила развлечь себя той самой забавой брата — «Я выиграл». Будь это сезон созревания яблок, ничего бы не случилось: яблоко целиком не проглотишь — в худшем случае оно расквасит тебе нос. Но стояло лето, как раз поспела мирабель. Она крикнула: «Я выиграл», открыла рот и подбросила в воздух недоспелую зеленоватую сливу…
Она промахнулась — и в первый раз, и во второй. Но Полина обожала повторы. И она начала игру сначала. Подтолкнула шарик рукой, потом одним пальцем, захлопала в ладоши и крикнула «Я выиграл!»; на шестой раз слива попала ей прямо в горло.
Слуги так ничего и не услышали. Когда горничная вернулась в столовую, Полина лежала на полу среди мирабели, рассыпавшейся из опрокинутой корзинки. Задыхаясь, она почти не билась в судорогах: оборка ее чепца, как всегда, аккуратно прикрывала лоб.
Друзья семьи, слуги и ученики так и не узнали всей правды. Для них это был просто несчастный случай. Притом необъяснимый, так как все знали об отвращении Полины к тому, что не было предварительно размочено, размельчено. Но можно ли угадать, что творится в голове у бедной безумной девочки?!
Никто из них не знал этой игры — «Я выиграл»… Только Батист видел, как сын забавляется ею. Видел однажды. И он понял.
Понял и Жан-Никола: теперь он знал, что убил Полину, любя ее, как Полина убила Пьера, как Софи убила Мари-Шарлотту, как его отец когда-нибудь убьет его самого. С этого дня он перестал носить шейные платки, кружевные манжеты, светлую одежду. В Академии Святого Луки, где он так и не завел себе друзей, его прозвали Аббатом. Постоянно видя его в коричневом или в черном, художники в мастерской сочли, что он примкнул к янсенистам [34].
Он вернулся из Бове, научившись писать куропаток в перьях. Он изображал куропаток, лежащих рядом с ружьями, на портретах дворян-охотников, за которые время от времени брался его отец. Дважды В*** позволил ему написать в уголке картины клавесин Софи: в первый раз на «Портрете дофины в образе богини музыки» — принцесса держала в руке только партитуру, и нужно было чем-то заполнить остальное пространство; во второй — когда один богатый любитель живописи заказал портрет своей дочери в полный рост; девушка играла на басовой виоле, инструмент стоял вертикально, и В*** нужно было уравновесить его горизонтальной линией, которую мог дать опять-таки клавесин. «Пойди в комнату матери, — сказал Батист сыну, — и изобрази ее клавесин — либо с натуры, либо скопируй с моего „Семейного портрета“. Делай как захочешь. Или как сможешь!» На сей раз Жан-Никола предпочел, против своего обыкновения, писать с натуры. Таким образом он мог стоять спиной к большой картине…
Постепенно он достиг умения изображать некоторые атрибуты: древесные стволы, увядшие цветы, пустые подсвечники, безоблачные небеса, окутанные тенью утесы, мертвую дичь, которая никогда уже не воскреснет, — словом, все, что не требовалось оживлять. Зато он недурно разбирался в чужом творчестве. И вдобавок прекрасно знал мифологию, историю великих людей и религий, символику жестов и предметов. В школе ему не было равных в теории искусств. А вот в практике он сильно отставал. «Жан-Никола, не набирай столько краски на кисть! Подмалевка не должна быть густой! — ворчал Батист. — Да-да, я знаю, так легче размазать краску по холсту, а мазок всегда выглядит аппетитным, маслянистым, выигрышным. И к тому же позволяет быстрее разделаться с картиной, не так ли? Это путь лентяев! Притом опасный путь: на твоей картине высохнет только верхний слой, а лет через десять эта пленка пойдет трещинами, лопнет и обсыплется! Посмотри на картины бедняги Ватто: он написал свою „Вывеску“ [35] за одну неделю — тоже мне, подвиг! А прошло тридцать лет, и что от нее осталось?!»
— Я не собираюсь творить для вечности, — бурчит Жан-Никола.
— Это я уже заметил, — парирует его отец.
Будущие портретисты по-прежнему стремятся попасть в обучение к В***, но среди художников начинают ходить разговоры о гнетущей обстановке в его мастерской, отравляемой бесконечными препирательствами отца с сыном.
Атмосфера совсем накаляется, когда Жан-Никола, будучи неспособным вдохнуть жизнь в свои произведения, берет на себя смелость выдвигать идеи. Историческая живопись всегда зиждилась на идеях, вот и жанровая, которая начинает входить в моду, тоже широко пользуется ими: так, кошка на картине — уже не просто кошка, а символ предательства (или сладострастия, в зависимости от сюжета); лента — обыкновенная лента — служит признаком фривольности; карточный домик изображает непрочность любовных связей; закрытый веер говорит о безоговорочной капитуляции его владелицы; разбитое яйцо означает потерю невинности; часы напоминают о скоротечности времени; а бюст, одиноко стоящий в углу, знаменует собой искусство в целом. Публика, обожающая шарады, изощряется в догадках: художник неудачно изобразил личико ребенка — в его смазанных чертах тотчас усматривают тонкий намек на изменчивость детского сознания! В общем, зрители распространяют на повседневную жизнь мрачную многозначительность всяких memento mori и vanitas vanitatum [36], коими прошедший век окружил понятие смерти.