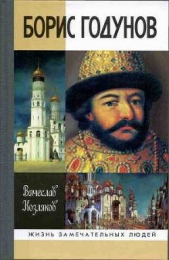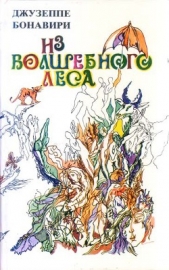Борис Годунов

Борис Годунов читать книгу онлайн
Высокохудожественное произведение эпохального характера рассказывает о времени правления Бориса Годунова (1598–1605), глубоко раскрывает перед читателями психологические образы представленных героев. Подробно описаны быт, нравы русского народа начала XVII века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет, это было невыносимо.
Король повелел пожарче разжечь камин.
За окном угасал день. Плоская заречная равнина открылась глазам короля с протянувшимися по ней тенями сумерек. Он поморщился. Тоска, тоска вползала в сердце короля. Сигизмунд услышал, как слуга с осторожностью укладывает поленья в камин, различил негромкое потрескивание разгорающегося пламени, но даже и эти всегда бодрящие его звуки не вывели короля из состояния подавленности. Он следил за сгущающимися тенями в полях.
Неожиданно, нарушив устоявшуюся тишину королевских покоев, где-то в переходах дворца раздались шаги. Сигизмунд невольно прислушался и понял: это дворцовый маршалок спешит с каким-то сообщением. Скрипнула дверь, и король почувствовал, что маршалок застыл у него за спиной, выжидая минуту, когда можно будет подать голос.
— Да, — позволил Сигизмунд, с болезненной ноткой в голосе, — я слушаю.
— Ваше величество, — нерешительно начал маршалок, зная настроение короля, и сообщил, что во дворец прибыл нунций Рангони.
Минута молчания казалась бесконечной.
Король все же повернулся от окна на две четверти оборота и, четко обозначив на фоне угасающего неба круто выходящий вперед подбородок, сказал:
— Проси.
Нунций Рангони прибыл во дворец врачевать королевские раны. А он это умел. Правда, нунций не пользовался благовонными восточными маслами, смягчающими живые ткани и снимающими боль, корпией или бинтами. У него были иные средства. Да и раны короля не нуждались в маслах, корпии и бинтах. Было уязвлено королевское самолюбие. Нунций прекрасно знал: сей недуг можно вылечить, лишь осторожной рукой извлекая из ран губительные стрелы и направив их в другую мишень. В этом случае нанесенные в сейме королю удары, смягчив их маслом лести, нунций отвел на пана Мнишека. И сделал это искусно. Бледность короля даже сменилась некой живой краской. Справившись с этим, Рангони с той же осторожностью приступил к врачеванию королевского честолюбия, понимая, что здесь есть единственное, безошибочное и чудодейственное лекарство — неуемное восхваление королевских достоинств.
Расположившись с королем у камина, нунций Рангони — с непередаваемыми интонациями в голосе — воспел поведение короля в сейме. Он отметил его великолепную сдержанность, глубокое, хотя и молчаливое, понимание пустоты и никчемности бурных речей панов сейма, достоинство, с которым король выслушивал этих крикливых его слуг. И здесь папский нунций добился многого. В потухших глазах короля появился блеск, и он с явным интересом обратил их на пылающие поленья в камине.
Глубокомысленно, вслед за королем посмотрев на бушующее пламя, нунций незамедлительно приступил к врачеванию главного ущерба, нанесенного королю в сейме. Как известно, Сигизмунд, не склонный к размышлениям, был всегда устремлен на поставленную им перед собой цель. Такой целью некогда был его дядя, Карл, осмелившийся отнять у него шведскую корону. Сигизмунд не знал покоя, постоянно видя в мечтах, как польские подданные, пролив кровь, приведут Карла связанным и бросят на колени к его ногам. Но в этом Сигизмунд не преуспел, и его устремленность с тем же накалом обратилась к иной цели. Московия с ее сказочными богатствами засверкала перед королевским взором, а мнимый царевич Дмитрий стал шпагой, которой он захотел завоевать эту сказку. Но сейм и в этом подбил ему крылья. Казалось, все пошло прахом. Выступление канцлера Замойского… Требование Острожского… Руины, вокруг были одни руины… Король сник. Но вот как раз этого позволить ему папский нунций не мог.
Выказывая необыкновенную осведомленность, он доверительно сообщил королю о все прибывающих и прибывающих в лагерь царевича казачьих силах. Рассказал о предполагавшихся переговорах царевича с крымскими татарами, которые якобы склоняются к совместному походу на Москву.
— А потом, — раскинул руки нунций, — так ли уж виновен достопочтенный пан Юрий Мнишек? Нет и нет. Он сделал, что мог, и надо помочь ему собрать новые силы.
В свете камина Рангони покосился на короля. Ему показалось, что Сигизмунд выпрямился в кресле и свободно вдохнул воздух широкой грудью.
Страшное слово «топор» на Москве было сказано. Да, знали, знали на Руси, и поговорку о том сложили, что-де не соха царю оброк платит, но топор; ан каждый раз слово это, короткое и тупое, все одно пугало.
Перво-наперво хватать начали пришлых на Москву. И пристава сразу же за грудки брали:
— Кто таков? Меж двор шатаешься?
Мужик и рта открыть не успеет, а его уж забьют словами:
— Откуда? С подметным письмом от вора? Где оно?
Мужик забожится, закрестится:
— Да я… Да мы… Господи, помилуй…
Но господь, может быть, и миловал, ан пристава молча за пазуху руки совали, обшаривали мужика, и неважно, найдут ли что или нет, а приговор готов:
— В застенок.
И поволокут беднягу. А кто в застенок вошел, известно, на своих ногах оттуда не выйдет.
Мимо пыточной кремлевской башни люди уже и ходить-то боялись. Больно страшно кричали пытаемые. Оторопь брала от криков тех. Как же надо человека умучить, чтобы с криком из него жизнь уходила. А слышалось в голосах, что так оно и есть. И москвичи головы нагнули. Но надобно знать, что на Руси, коли головы гнут, не обязательно такое о страхе говорит. Нет. Вовсе не обязательно.
Власть-то любит, коли человек нараспашку — вот-де я какой! Такого еще по плечу похлопают — давай-де, давай, шагай и дальше так. А когда голову опустил? Глаз не видно. Это опасным грозит. И Семен Никитич силу набрал. На Болоте, где казни вершились, столб врыли, на столбе спицы железные укрепили и на них вбивали головы казненных. Во как! Поддерни портки, дядя, да побыстрее мимо, а то как бы и твоей голове на спицах не очутиться… Но то, что на Москве деялось, было половиной беды. Беда упала на северщину.
Потерпев поражение под Новгород-Северским, российское войско, собрав силы, в другой раз ударило на мнимого царевича и разбило наголову. С остатками поляков и малой частью казаков Отрепьев бежал в Путивль.
Сражение кончилось. В плен была взята не одна тысяча поляков, стрельцов, примкнувших к вору, казаков, комаричей. Они стояли угрюмой толпой.
Федор Иванович Мстиславский, в окружении воевод, подъехал к ним, остановился. Мужики, заносимые снегом, стояли молча. Серые армяки, бороды, темными полосами рты на бледных после боя лицах. Кое-кто стоял без шапок. Ветер шевелил волосы.
Жеребец под князем переступил с ноги на ногу, и острая боль недавней раны пронзила Федору Ивановичу голову. Он болезненно сморщился, поднес руку к виску. Боль отпустила. Князь различил особняком стоящих среди мужиков поляков в гусарских доломанах с откидными рукавами. И опять серые лица мужиков увиделись Мстиславскому. Хмурые лица, ничего доброго не ожидавшие, но да и не обещавшие. Князь глаза сузил. Много, много видел он таких лиц за свою жизнь. Видел с Красного крыльца в Кремле или, выходя следом за царем по праву первого боярина с папертей святых храмов; видел из окна кареты, проезжая по Москве, или вот так же, как ныне, с высоты седла, оглядывая проходивших мимо ратников, которых сам вел в поход. Те же это были лица, все те же… С глубоко резанными морщинами, голодно выступающими скулами, упрямо сомкнутыми ртами. А в голову князю не пришло, что видел-то он их с высоты своего рода и места в державе, и оттого, быть может, никогда улыбок на них не разглядел, голубого цвета глаз не разобрал, мягкости черт не угадал. Как не пришло ему в голову и то, что с расстояния чина боярина, первого в Думе, отделявшего его от них, не слышал он ни мужичьих голосов, ни жалоб, ни стонов, прислушавшись к которым, может быть, увидел бы и лица те по-иному.
О том он не подумал.
Жеребец, не то замерзая, не то в нетерпении скачки, в другой раз переступил с ноги на ногу на хрустком снегу. И неловкое это движение жеребца, взвизг снега под его копытами вновь болью пронзили княжескую голову.
Властной рукой Мстиславский взял на себя поводья. К нему приблизились воеводы Дмитрий Шуйский и Василий Голицын. Не поворачивая головы, князь что-то коротко и зло сказал им и, развернув коня, поскакал к своему стану.