Три прыжка Ван Луня. Китайский роман
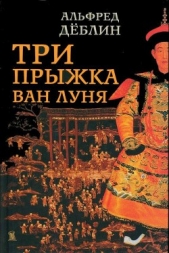
Три прыжка Ван Луня. Китайский роман читать книгу онлайн
Роман «Три прыжка Ван Луня» сразу сделал Альфреда Дёблина знаменитым. Читатели восхищались «Ван Лунем» как шедевром экспрессионистического повествовательного искусства, решающим прорывом за пределы бюргерской традиции немецкого романа. В решении поместить действие романа в китайский контекст таились неисчерпаемые возможности эстетической игры, и Дёблин с такой готовностью шел им навстречу, что центр тяжести книги переместился из реальной сферы в сферу чистых форм. Несмотря на свой жесткий и холодный стиль, «Ван Лунь» остается произведением, красота которого доставляет блаженство, — романтической, грандиозной китайской сказкой. Дёблин и сам жил в этой сказке как в заколдованном царстве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
До конца серьезен автор этой книги был лишь в стремлении бросить вызов бюргерскому искусству начала двадцатого столетия. Как произведение искусства «Ван Лунь» представляет собой одну из величайших провокаций, в которых — как в ранней прозе Кафки или в стихах Георга Тракля — закладывались основы языка экспрессионистической литературы. Дёблин и о современном ему искусстве думал по-революционному, видел в нем «забаву для обеспеченных людей» и хотел посредством своей китайской ереси вышибить литературу из традиционных для нее рамок. Конечно, герой романа — исторический персонаж, да и Китай для Дёблина всегда оставался чудовищной реальностью, но в данном случае они понадобились ему прежде всего для опровержения всех европейских понятий, и особенно — всех западных представлений о красоте. «Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия», — говорится в последней главке «Дао Дэ Цзин». Дёблин тоже предпочитает говорить об уродливом, чтобы не пройти мимо правды. Его проза — вызывающе нелитературная, пугающе жесткая и холодная, лишенная ритма и мелодики (хотя в ней встречаются великолепные куски, отклоняющиеся от этого общего принципа). Она производит странное впечатление также из-за ничем не ограниченного, некультивированного, отчасти плебейского словарного запаса, который включает в себя, среди прочего, современный тривиальный сленг, — а при каждом удобном случае еще и демонстрирует свою несовместимость с любыми формами красноречия. Всех тонов, затрагивающих, так сказать, чувствительные струны души, Дёблин избегает, все привычные образы заменяет непривычными, часто — грубыми. С безжалостной резкостью высвечивает он инстинкты китайского «массового человека», подчеркивает и странные для европейца черты китайцев: «Десять бритых голов с косичками на затылках сдвинулись, поднялся радостно-испуганный ропот». Особенно карикатурное впечатление производят сцены, показывающие веру китайцев в демонов, которой Дёблин уделяет преувеличенно большое внимание, и авантюрную возню вокруг даосских и буддийских святилищ. Читателю кажется, будто автор знает Китай досконально: со всеми его притонами, обычаями, запахами, дворцами и хижинами, многолюдными рынками и питейными заведениями.
Однако не может быть сомнения в том, что мы здесь имеем дело с чистой фантазией, с вымышленным миром. В «Ван Луне» нет объективных описаний, чужая реальность просто «цитируется» магически-произвольным образом, посредством использования ее знаков и имен. Поскольку Дёблин не знал китайского языка, он никак не мог избежать ошибок: в описании обычаев, в интерпретации обиходных речевых оборотов, вообще в понимании «специфически китайского». Даже имена он не всегда транскрибирует правильно (например, везде пишет «Чакьямуни» вместо «Шакьямуни», начиная это имя с заглавной С вместо Ç). Но он не очень заботился о строгой научной достоверности, ибо добивался нужного ему необыкновенного эффекта именно за счет смешения достоверных фактов с порождениями своей фантазии. Такой метод придает наколдованному им Китаю видимость осязаемой реальности, сохраняя обволакивающую все предметы дымку загадочности. Вещи называются их китайскими именами, но сами эти имена не объясняются. Некоторые многократно употребляемые слова (даотай, дусы, цзунду, ямэнь, гаолян и прочее), такие имена, как Майтрейя и Амитаба (обозначения Будды), обычаи вроде поднимания косички на затылок — все это нигде не объясняется. «Иное» обольщает именно потому, что остается наполовину непонятым. На него смотрят снаружи, а не изнутри, и его «инаковость» часто даже намеренно подчеркивается. Люди, предметы, события — их отдельные детали ярко вспыхивают, выхваченные чьим-то зорким взглядом, но сами они не обладают трехмерной телесностью, а остаются подвижными цветными тенями. Особенно массовые сцены с типичным для них безумным мельтешением фигур производят впечатление галлюцинаций, однако такое же ощущение часто возникает и при чтении более спокойных отрывков.
Галлюциногенные свойства присущи и языку романа. Отдельные предложения слабо связаны друг с другом, они как бы пребывают в свободном парении, колышутся — и потому легко забываются, подобно ярким образам из сновидений. Некоторые фразы сформулированы столь небрежно, что остаются неясными; другие, похоже, были написаны в состоянии транса, а после намеренно не правились. Особенно примечательно многообразное, характерное для Дёблина на протяжении всего его творческого пути отображение не произносимой вслух, а только внутренне переживаемой речи. Этот прием снимает различие между внутренним и внешним миром, то есть лишает реалистический стиль его главной опоры; а сверх того, и на изображаемый таким образом внутренний мир Дёблин смотрит совершенно по-новому — взглядом врача. Вот, например, как он описывает в начале романа созревание у Ван Луня мысли об убийстве: «… маску ведь можно напялить на голову дусы, задушить ею, отбросить мертвое тело прочь. Хорошая идея. Ван был счастлив. Напялить маску на дусы, а самому потом — прочь. Напялить — и сразу прочь, прочь». При изображении реальных событий приближение синтаксиса к примитиву достигается за счет пропуска логических связок, прежде всего союза «и». Так возникает нечто вроде архаической формы предложения, удовлетворяющейся простым называнием, перечислением вещей и явлений. «Мелькание фонарей между угольно-черными стволами. Хруст веток, приглушенные голоса, зевота, потягивания, топот, толкотня». Этот предельно сжатый, обрывочный стиль достигает кульминации в военных эпизодах и сценах массового экстаза. «Тишина, затаившие дыхание зрители. Гигантские театральные подмостки, визг связанных сестер, обнаженные нежные тела, палки, с треском обрушивающиеся на головы братьев, рев, конский топот, хныканье больных, пустая равнина, дождь». По всему роману разбросаны подобные куски, вплоть до эпизода паломничества Хайтан в самом его конце: «Освещенные солнцем зубцы гранитных утесов. Сновидческие, погруженные в себя ландшафты. Стройные колонны пальм, и над ними звонкие птичьи голоса. Камелии — десятками, сотнями тысяч. Пруды, выдыхающие пар, и лотосы на воде. Среди кустарника, за каменистой тропой, — храм у подножья горы. Туго натянутое небо». Такая повествовательная манера легко вырождается в манию, особенно в «Валленштейне» и в «Горах, морях и гигантах», где Дёблин утомляет читателя нагромождениями «голых предметов» и минималистских высказываний, в результате чего у него получаются не наглядные картины, а водопады из чуждо звучащих слов. В «Ван Луне» он еще не заходит так далеко. Сравнение окончательного текста с его источниками показывает, что Дёблин, к примеру, намеренно ограничивал себя в использовании китайских выражений и имен. Волшебство дёблиновского китайского романа заключено в особенностях его стиля: он весь — как акварельный рисунок с редко разбросанными цветовыми пятнами. Легкая рука мастера подгоняет один образ к другому, создавая переливающееся яркими красками видение нереального мира. Здесь мы сталкиваемся с искусством околдовывания, с шаманской поэзией.
«Магичность» стиля проявляется также в избыточном изобилии и в самом характере художественных образов. Эти образы тоже взрывают все литературные конвенции и несут в себе нечто небывалое, неслыханное. Вот, например, как описываются прогулки Ван Луня на берег моря: «Часто по утрам море ядовито поглядывало на него мутно-желтыми глазищами, выхаркивало комки мокроты, недовольно ворчало. Но потом все-таки меняло свой серо-черный наряд на другой, пурпурный, — царственно роскошный. Под свежим ветром гордо неслись к берегу волны — колесницы, запряженные жеребцами в сверкающей сбруе…» В этом пристрастии к барочному изобилию метафор Дёблину не всегда удается избежать «холостого хода». Но в романе встречаются и такие места, где читатель переживает конец реалистического повествования, сталкиваясь с каким-то иным законом формотворчества. Это происходит там, где чувственные ощущения описываются не ради них самих, но превращаются в образы-знаки, в зримые символы, и соединяются в такую мозаику, которая отображает уже одну только духовную сферу. Вот, например, что сказано о ландшафтном контексте оргий у болота Далоу: «Угольно-черные глыбы ночи медленно расползались в стороны. Серый газ просачивался в щели, раскалывал ночь на куски, кусок за куском исчезал. И из тьмы выступили катальпы — бараны, нагнувшие рога». Здесь ландшафт как будто целиком заменен образами, передающими чувственные ощущения, — а в удивительном отрывке, который я сейчас процитирую, он замещен человеческой фигурой: «…к тому же погода была великолепная, набрякшая снегом: словно ребенок наклонился над пропастью, и шелковые покрывала, тонкие шали округло выгибаются, раздуваемые ветром, над его головой; и ты видишь только эти колышущиеся ленты, полотнища, пестрые матерчатые пузыри, но между ними мелькают, как тебе кажется, еще и хитрый веселый взгляд, и хлопок в ладоши, а нос твой с жадностью втягивает воздух, пропитанный ароматом имбиря». В таком же символически-абстрагирующем стиле изображены «гигантский, беснующийся на ветру цветок мака» — охваченный пожаром Пекин — и битва под Инпином, происходящая во время грозы: «Из черного воздуха на невидимом шнуре свисал — висел над обеими армиями — гигантский гонг, его удары раззадоривали противников. Два снежных барса прыгнули друг на друга».


























