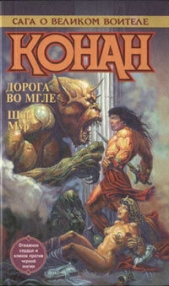Гражданин Уклейкин

Гражданин Уклейкин читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ха-ха-ха… Bo-острый, шут…
— Кто это?
— Сапожник Уклейкин разговорился… Ну-ка!
— Смотри, как бы рот-то не завязали! — грозил шорник.
— Завязок таких нет… Были, да семнадцатого числа все вышли…
— Сыщутся. Ты народ-то не мути!
— Чай, не вода… Да не плачь, не впишу…
— Ха-ха-ха… Зубаст сапожник!..
— Будешь зубаст, как мяконькова-то не дают…
— Пускать начали… Ну, господи благослови…
— Ваша повестка? — спросил околоточный в нитяных перчатках. — Та-ак… Пожалуйте…
«Ага, — подумал Уклейкин. — Вот уж и „пожалуйте“… А бывало…»
В зале театра, где еще так недавно было шумно и занятно, теперь царила жуткая, выжидающая тишина. Стоял стол под зеленым сукном, за столом члены комиссии с серьезными лицами. Горели лампы под зелеными колпаками. Перед столом высокий деревянный ящик, перевязанный бечевками, с яркими пятнами сургучных печатей.
У ящика, в кресле, плотная фигура городского головы в бобровой шубе внакидку. Разлитая в темном театре выжидающая тишина, тусклые зеленые пятна ламп, молчаливая комиссия и сам голова у ящика — придавали собранию вид подозрительного, тайного заседания. Уклейкин почувствовал жуть и подвигался к столу, стараясь не стучать сапогами.
Страшно важное вершилось в тиши.
— Уклейкин, Димитрий Васильевич… — прочел голова повестку.
И, как эхо, в пустом театре отозвалось:
— Уклейкин, Дмитрий Васильевич… Есть… No 4261.
— Так. No 4261… Позвольте…
Уклейкин хотел опустить сам, но этого ему не дозволили, и на его глазах заветный листок окунулся в ящик.
— Больше ничего-с… — сказал городской голова.
Точно гора с плеч свалилась. Какое-то большое, важное дело сделано, и теперь не повернешь. Нечто похожее испытывал он, когда, бывало, отходил от причастия. И хотелось перекреститься.
Он шел к выходу, а навстречу заглядывающей вперед вереницей тянулись еще и еще, знакомые и незнакомые. Вот и сам председатель собраний, Стрелков.
Уклейкин осклабился радостно, и тот вежливо приподнял шляпу.
Сказать ему разве, что за него? Но удержался, вспомнив, что выборы тайные. Эта тайна особенно нравилась ему. Никто ничего не знает, ждет, — и вдруг — пожалуйте!
«Нет, голова-то! „Вы“ говорит. Может, думает, что за него подал. Держи карман! И по отчеству… Митрий Васильевич… Эх, Матрены нет!.. Прониклась бы… А то все равно не поверит…»
— Чего толчешься тут? Проходи… нечего тут! — крикнул околоточный, когда Уклейкин остановился на ступеньках крыльца.
Ему хотелось, чтобы его все видели, что и он был в комиссии и подавал, и потому он стоял на ступеньках.
Окрик резнул Уклейкина. Он даже явственно почувствовал, как рука околоточного коснулась его плеча. Острое, злое чувство дрогнуло в нем, он хотел ответить, но только вызывающе взглянул в безусое лицо, перевел глаза на перчатки и кобуру и отошел в сторонку, ворча под нос:
— Нечего толкаться… Я записку подавал… По-ли-ци-я!..
Он стоял в сторонке и все еще вызывающе глядел на околоточного, дожидаясь, когда тот встретится с ним глазами. Но околоточный ни разу не поглядел в его сторону: избиратели шли густой массой и предъявляли повестки.
«Господи!.. Все идут, идут… Си-ила…» — думал Уклейкин, оглядывая подходивших с сосредоточенными, застывшими лицами, точно таившими что-то от всех, — то, что известно им одним.
И было грустно сознавать, что все кончилось, что от него ничего больше не требуется. Не будет больше собраний, опять все по-старому пойдет.
Он уже чувствовал потребность того нового, что пронизало серенькую жизнь его яркой полосой.
И не хотелось уходить от народного дома. Он вздохнул и вмешался в толпу, где все еще горячо спорили о «ваших» и «наших».
XVII
— Поговорил я с подчаском! — сказал Уклейкин жене. — Ошпарил его здорово.
Ему хотелось верить, что это так и было, что он «поговорил».
— Кончил, что ль, таскаться-то?
— Куда я таскался? куда? Как ты так можешь говорить, а?.. Я в трактир хожу?.. а?.. в трактир?.. Баба несуразная!.. А?.. Таскаться?!
В нем сразу поднялось все острое и больное, что последнее время умирало. Слово «таскаться» оскорбило его. То, что он делал все эти дни, было так необыкновенно, ново. Оно его захватило, держало в состоянии сладостного напряжения, отодвинуло далеко-далеко все похожее, скучное, к чему он привык и о чем не хотелось теперь и думать. И вдруг — «таскаться»! Словно сон светлый снился ему, — так все не похоже было на жизнь, на его мертвую жизнь. И грубая рука толкает его и будит. Ведь скоро все новое пойдет и уже идет, а тут Матрена не желает ни с чем считаться. Не может проникнуться тем, что стало жить и теплиться в нем. Что это такое, он не знал, но переживал и берег. Что-то должно случиться скоро. Нечто похожее испытывал он раньше, когда кто-нибудь звал его на именины и он, сидя на липке, раздумывал, как он вечером пойдет и будет угощаться. Или когда наказывали прийти к новому богатому заказчику и он высчитывал, сколько следует запросить.
Но то, что он переживал теперь, было неизмеримо лучше, только непонятнее.
И потому он крикнул на Матрену, и крикнул не со злобой, а скорее с тоской. Должно быть, это был особенный выкрик, потому что Матрена как-то особенно оглянула тощую его фигуру и сказала уступчиво:
— Ну-у… Время тратишь-то… Вон починка второй день валяется.
— Знаю! — с сердцем сказал Уклейкин, сел на липку и начал работать, выставив острые плечи.
Матрена видела его осунувшееся, зеленоватое лицо, ввалившиеся щеки, бледные, прозрачные уши. Слышала, как переливались хрипы в его впалой груди.
«Чисто мертвец стал… И не пьет, давно не пьет… И тощий же стал».
И повернулось что-то в душе, не то жалость, не то тоска. Она не раздумывала.
— Хошь ситничка-то?
Уклейкин забыл, что с утра ничего не ел. Он с удивлением взглянул на жену, хотел было сказать ласковое что-нибудь в ответ — и не нашелся.
— Что ж, дай… — задумчиво сказал он и вздохнул.
И, когда Матрена подавала ему ломоть, он глядел в окно. Там было ясно. На противоположном доме ярко горели окна и сверкал снег. Подтаивали сосульки. Шла капель, первая весенняя капель.
Он жевал, чмокая и двигая носом, не отрывая глаз от ярких пятен на стекле. Было тихо. Слышно, как спешили одна за другой капли.
— В деревне теперь хорошо… — сказал он с глубоким вздохом. — Грачи прилетят.
Тишина и капель, сосульки тают, и яркое солнце в небе.
— Ежели бы деревня у нас была, я бы…
— Ну, болтай…
— Я бы… рябину посадил… большу-ущую рябину… или бы березу сучковатую…
— Ну?..
— Ну… и наставил бы скворешников.
— Ну?..
— Скворцы бы пели…
Помолчали.
Старый заскорузлый сапог лежал на коленях. Уклейкин жевал ситный, а за окном постукивала капель. Часто-часто.
Спешила весна.
— А то еще… — говорил Уклейкин, жуя и смотря через окно, далеко куда-то, в то, что таилось в нем самом, — петухи по весне весело кричат…
Солнце передвинулось, подкралось и вдруг брызнуло зайчиками в тусклые стекла. Зайчики заиграли, заюлили по потолку, забились в паутинных углах — веселые, весенние зайчики.
— Папанька! Зайчики, зайчики! — крикнул Мишутка.
А за окном шла капель.
XVIII
Апрельское солнце затопило город. Было воскресенье. Весело, по-весеннему, играли колокола.
У Уклейкина уже давно выставили окна, и неведомо откуда, должно быть из старого полицеймейстерского сада, тонкой струйкой врывался в душную комнатку острый запах черемухи и тополей.
Уклейкин стоял у окна и глядел в небо. Оно было ясное, светлое, это весеннее небо. Оно манило к себе, будило к жизни, смягчало взгляд, бросая в тусклые глаза яркие вздрагивающие лучи. И молодило.
Мимо тянулись крестьянские телеги с базара и на базар, шли бабы с мешками, и мужики с кнутовищами на ходу подтягивали плечами воза с сеном, помогали лошадям взбираться в гористую, изрытую ямами улицу.