Ливонская война
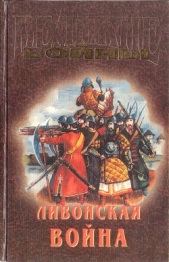
Ливонская война читать книгу онлайн
Новая книга серии «Великие войны» посвящена одной из самых драматических войн в истории России — Ливонской войне, продолжавшейся около 25 лет в период царствования Ивана Грозного. Основу книги составляет роман «Лета 7071» В. Полуйко, в котором с большой достоверностью отображены важные события середины XVI века — борьба России за выход к Балтийскому морю, упрочение централизованной государственной власти и превращение Великого московского княжества в сильную европейскую державу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сказал им всем прямо в глаза Головин: «Трусы вы, трусы, а не хитрецы, и не лукавство в ваших душах, а страх, и не с царём хитрите, а меж собой — друг с другом: ходите лисой один перед одним, мутите воду, и кто посноровней, половчей, тот ловит рыбку в этой воде и ушицу похлёбывает, а кто растяпа, простак, а хуже того — доверчив и честен, тот ходит в дураках». Сказал, рубанул сплеча, и вот — теперь уж точно остался один, как верста в поле. Не простят ему бояре прямоты: горды, чванливы, самолюбивы, да и не того полёта он птица, чтоб взяли они его в свою стаю. Нет ему места среди них и не будет — да и пусть! Не места он ищет, не тщеславие изводит его… Царь, царь!.. Вот его мука, его боль, его непокой, его исступление. Взгляд уронит в его сторону — чёрной злобой заходится душа, и каждая мысль о нём — как плеть, что вонзалась в него в тот незабываемый день. И уж совсем нестерпимо своё бессилие, и одиночество, и отверженность… В своей среде он тоже изгой. Сторонятся его, чураются… Нынче на пиру он по роду и чести на главном месте сидит за столом окольничих, но погляди-ка на всех остальных — сидят с таким видом, будто его вовсе и нет за столом. Вяземский, Ловчиков, Зайцев — вот кто нынче главенствует за столом окольничих, на них лебелизо пялят хмельные глаза, их, как блинами с огня, потчуют масляными прихмылками, к ним нынче льнут и примащиваются, перед ними усердствуют в угодничестве и щедро расточают вкрадчивую ухищрённость корыстного двоедушия. Меняется ветер, перекладываются и паруса. Держать против ветра — кому под силу?! Таким, как он, Головин, и то невмочь! А всей этой лизоблюдствующей братии, с её утлыми душонками, и подавно не выстоять против ветра. Да и зачем ей это?.. Зачем ей Головин, зачем бояре, когда есть царь — царь, стоящий надо всеми! За ним они пойдут, на его сторону станут, его выберут — и уж выбрали! И наплевать Головину на них, всегда было наплевать, он бы с ними всё равно не связал себя: они для него то же, что и он для бояр, — мелкие пташки. Пусть чураются, пусть пренебрегают — наплевать! Но душа его скомит: тягостно чувствовать свою отверженность, тягостно сознавать своё одиночество и бессилие. Ничего он не может в одиночку: одной рукой и узла не завяжешь! А царь силён нынче, силён как никогда! Но можно, можно обломать его нрав, можно принудить его быть покорным. Есть ещё такая сила, которая может противостать ему… Эта сила — бояре!
Головин спустит, как пса с цепи, свой злобный взгляд, устремит его на боярский стол — каждого-каждого обойдут его глаза, обмерят, обшнырят, обдадут гневным укором и как будто облают презрительным лаем. С языка у него так и рвётся негодующий упрёк, яростный, исступлённый… Крикнул бы он им: «Жирные вы караси, богатины пентюшивые, неужто застлало вам, не видите, к чему дело клонится? Не гомозитесь, не чваньтесь, не лукавьте друг перед дружкой! Нет сейчас врага страшней, чем царь! Восстаньте на него купно и твёрдо… Все, как один, восстаньте! Стеной, глыбой воздвигньтесь пред ним, и в миг один не станет его! Падёт он ниц перед вами, положит свою волю на ваши руки. Всё будет под вами!.. Понеже сила ваша ещё могуча. Вы ещё можете обратать его… Ещё можете?.. А упустите сей час — конец вам! Всем — конец!»
Да не крикнет, теперь уже не крикнет, не станет больше вразумлять их… Тоже гордость есть, и немалая! Лежит она в нём поперёк его души тяжёлым, угловатым камнем: нелегко ему с этим камнем, с трудом осиливает он его, с трудом ворочает из стороны на сторону. Повернул было, пришёл к ним с открытой душой — не вняли, отмахнулись, отвернули от него свои души… Ну так пусть теперь пьют свою чашу, она уж для них приготовлена. Он свою також изопьёт — в одиночку!
А за боярским столом — не слышит того Головин — перебирают его косточки: степенно, беззлобно, этак даже снисходительно… Боярин Немой, словно ненароком, словно в хмельной истоме, притыкается к Кашину и, оглушая голос до шёпота, сторожась сидящего неподалёку Умного-Колычева, увалисто буркотит:
— Головинский-то отпрыск… Эвон как зарит! [216] Глаза что ножи!
Лицо у Немого раскалённое от хмеля, хоть онучи суши, но взгляд умудрённо остр и голос твёрд, внятен. Много влил в себя хмельного зелья боярин, но рассудка не залил, стати своей не принизил — крепок боярин, не впервой на пирах сиживает.
— Да уж навёл на себя он страсть, — согласно отшептывает Кашин, — хоть руки на себя накладывай.
— Давеча… — Немой сострадательно морщит лицо, только сострадательность-то его пополам с надменностью: уж над кем, над кем, а над Головиным-то он чует свой верх. — Что призадумал-то давеча… — с нарочитой удивлённостью говорит он. — Наехал ко мне на подворье…
— К тебе ли единому…
— Вестимо, не к единому…
— У кого нет голосу, тот и петь охочь, — роняет надменно Кашин и плоско, как сыч, смотрит на Немого: поди пойми, о ком он так — о Головине ли, а может, о нём, о Немом?
Немой плющит лицо в согласной улыбке, а глаза его сквозь ехидные щёлки так и режут Кашина, так и жгут, но Кашин непроницаем, глаза его мелки, как плошки, и будто не за ними таится одна из хитрейших и изощрённейших душ — только на тонких губах его лежит еле заметный, вяловатый изгиб презрительной самонадеянности.
Немого коробит от этой неутаивающейся презрительности и самонадеянности Кашина. Плюнул бы в его разлукавую рожу — ох и рожа: борода апостольская, а усок дьявольский! — да не плюнет, ведь это всё равно что в собственную рожу плюнуть. Не многое разнит их!
— Спета его песенка, — говорит Немой равнодушно, и чувствуется в его равнодушии тонкое отмщение кашинской надменности.
За боярским столом вольготная суетня, шум, веселье… Повзбодрились бояре с царским уходом, пораспрямились, рассупонили свою спесь, распнули свою широкость: не стало над ними царского глаза, не стало его суровой и злой пристрастности, ну и дали себе волю! Хоть ненадолго, на несколько часов лишь, а всё ж вольны!.. Вольны встать из-за стола — и не скромненько, не с поклоном царю, и не с мольбой в глазах, когда нет уже мочи осиливать перепотчеванное чрево, а легко, и свободно, и запросто, как у себя дома, — вольны громче обычного кликнуть слугу да и в морду вольны ему съездить от пущего куража, вольны в полный голос говорить, смеяться, вольны, коль заблагорассудится, и на голову стать — кто их теперь урезонит, кто остепенит?!
Воевода Шереметев в злом истерпье подзывает к себе прислужников, велит снести себя до ветру. Смешон воевода на руках у прислужников — этак-то носят по улицам в срамной рубахе баб-блудниц.
Князь Хилков, распираемый хохотом, сыпанул вслед куражливый мат — не в обиду воеводе, в потеху иным, — и завихрился по палате скоромный хохот: над боярским столом — откровенный, идущий из самой утробы, над столом окольничих — более сдержанный, притаённый, но и ехидноватый, с тонкой злорадинкой, от которой никогда не может удержаться ни одна окольническая душа, если выпадает удобный случай в чём-нибудь попотешиться над боярами! Хохочут — как розгами секут! Зато там, где порассеялась мелкая сошка — не родовитые, не чиновные: подьячие да прочий приказный люд — от приставов до судебных старост, — там совсем иные страсти, там не хохот, там хохоток — услужливый, вежливый, мягкий, как подовый пирог…
У всей этой служилой мелюзги душа всегда на привязи, и боже упаси дать ей хоть в чём-нибудь волю! Безликие, услужливые, приятные — везде и во всём, — тем они и сильны, оттого и живучи, оттого и неуязвимы, и счастливы тем!.. Какие только ветры не дуют над ними!.. Какие грома громыхают! Рушатся судьбы, падают головы, жизнь разверзается до самой истошной своей безобразности и затягивает в свои смрадные глубины всё и всех… Всех, но не их! Они остаются — неизменные, неизбывные в своей терпимости и стойкости, неуязвимые в своей заурядности, хитрые своей бесхитростностью и страшные своей живучестью.
Унялся хохот в палате, да не унялся Хилков: пошёл он тормошить да пинать под бока поулёгшихся на полу вдоль стен истомившихся от хмеля и бессонья гостей. Следом за ним увязался (поплёлся!) Салтыков. Сам-то вот-вот в себя пришёл царский оружничий… Дюжий хохот бояр пробудил его, а то ведь дрых боярин на столе, ткнув холёное лицо своё в кучу рыбных объедков. На бороде так и осталась прилипшая чешуя.

























