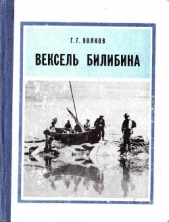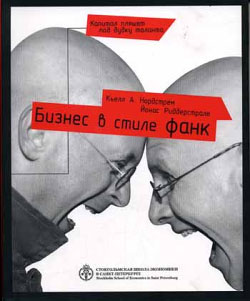Глухая пора листопада
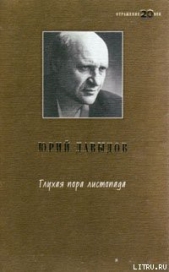
Глухая пора листопада читать книгу онлайн
«Глухая пора листопада» – самый известный в серии романов Юрия Давыдова, посвященных распаду народовольческого движения в России, в центре которого неизменно (рано или поздно) оказывается провокатор. В данном случае – Сергей Дегаев, он же Яблонский...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сизов опять очутился в карцере. Вторичного «поджаривания» он, наверное, не вынес бы, если бы теперь кормушку не оставили отворенной. Команда, прослышав о норовистом каторжном, страждущем не за себя, тайком потчевала Нила то лимонадом, то бананами, то гуляшом с макаронами.
Вернули Сизова в трюм уже близ Сахалина. «Кострома», умерив ход, двигалась в проливе Лаперуза. Нил, несмотря на трюмную вонь и духоту, с наслаждением вытянулся на нарах, потому что в карцере корчился в три погибели…
В тот же вечер, туманный и мглистый, «Кострома» налетела на Камень Опасности. Вода, урча и прихлюпывая, начала поступать в трюмы. Каторжные, обезумев, заметались в темноте.
– То-о-нем!
– Пустите на палубу-у-у!
– То-о-нем!
На минуту приоткрылся люк. Старший офицер заорал срывающимся голосом:
– Молчать! Паром ошпарю!
И люк захлопнулся.
Вода уже не урчала, не хлюпала – шумела ровно, сильно.
3
В тысячах миль от Камня Опасности, на другом камне, посреди иных, несоленых, вод возлежала тюремная крепость.
Белые ночи призрачны. И потому, наверно, белыми ночами не видать призраков. Ни заколотого шпагами царевича Иоанна, ни еретика Круглого, истлевшего в замурованном склепе, ни польского патриота Лукасинского, угасавшего в одиночке тридцать семь лет.
Белой ночью часовых не пугали и призраки последних, недавних жертв Шлиссельбурга. В мертвой земле лежали мертвые. Халат с бубновым тузом был им саваном. Мертвые не слышали кладбищенской тишины. В кладбищенской тишине – птичий посвист, молитва листвы. А Шлиссельбург был нем. И мертвые не шептали: «Fuimus… Мы были…»
«Мы были…» – принадлежало не уже мертвым, а еще немертвым. Прежде одевал их камень Петропавловки, теперь – Шлиссельбурга. Прежде они изнывали на острове, что в устье Невы, теперь на острове, что в истоках Невы. Раньше они слышали соборные куранты. Теперь не слышали ни звука. «Fuimus… Мы были…»
Самодержавство третьего Александра началось стуком топоров: сколотили эшафот Желябову и Перовской, Кибальчичу и Михайлову… Потом на Красной площади пели «Славься, славься»… Коронация, возвращение из Москвы в Петербург сошли благополучно, но в столице Александр узнал о некоторых беспорядках. Правда, быстро потушенных. Запершись в Гатчине, император предался мрачным мыслям о супостатах-крамольниках.
Смерть на виселице, как ему говорили, не была мучительной. Быстрота перехода в небытие таких извергов, как те, что пролили кровь родителя и могли пролить его кровь, быстрота эта смущала Александра. Надо было измыслить что-то… что-то более неприятное. (Государь именно так подумал: «Неприятное».) И вместе милосердное. Неприятное и милосердное. Не инквизитор, он думал как инквизитор: в пожизненном заключении – высшая степень милосердия.
Алексеевский равелин – «Секретный дом» Петропавловки – обветшал. Нечаев, злодей из злодеев, совратил караул, едва не вырвался из «Секретного дома». Время и Нечаев подписали равелину отставку.
Император Александр Третий вспомнил остров. Тот, что на краю Ладоги, тот, что у истока Невы.
Император посетил Шлиссельбург семейно. С государыней и братом генерал-адмиралом, с наследником цесаревичем Никой и маленьким великим князем Жоржем.
В часовне они приложились к иконе божьей матери.
Потом осматривали стены, башни, дворы, строения. Семейное дело обсуживалось фамильно. Перед отбытием император обнял плечи наследника. Помолчав, они улыбнулись друг другу.
Последствия августейшей прогулки не замедлили: директору департамента полиции Плеве, командиру корпуса жандармов Оржевскому высочайше повелено было привести в порядок и обновить государеву тюрьму Шлиссельбург.
Люди серьезные, мундирные, воспитанные на христианских заветах, принялись за устройство новой тюрьмы. Такой, которая отвечала бы последним достижениям мирового тюрьмоведения. Такой, которая была бы лучше всех иных, существующих в свете.
Они спорили, размышляли, выставляли одни соображения и отвергали другие. Они сравнивали образцы английские и американские, французские и немецкие. То было старательное, вдумчивое изучение западных образцов, наиболее приемлемых для России.
Решающее слово оставалось за Гатчиной. До Гатчины все решал г-н Плеве. Юрист, законник, он изучил материалы европейских тюремных конгрессов. Конгрессы – веление времени – ратовали за наказание, сопряженное с исправлением. Исправление не входило в расчеты ни Гатчины, ни Плеве. Наказание по меркам Европы предусматривало сохранение личного достоинства наказуемого: личное достоинство и империя были несовместимы. Чужие образцы годились лишь технически.
Генерал Оржевский взялся за инструкцию: для будущих заключенных Шлиссельбурга, для будущей стражи Шлиссельбурга. Тайный советник Плеве – за отбор кандидатов в узники Шлиссельбурга.
У апостола сказано: «Помните об узниках, будто и вы были с ними в узах». Плеве помнил лица, характеры, состав преступления. У него сложилось свое отношение к каждому: любопытство, раздражение, изредка невольная уважительность, иногда, вспышками, ненависть. Но, обрекая любого шлиссельбургской пытке, Плеве действовал холодно, служебно.
Единственным исключением была «ужасная женщина», как выразился некогда государь. Плеве не забыл и не простил: «Боже, какое ничтожество!» Этот ее взгляд, ухмыльнувшись, поняли министр граф Толстой, паркетный шаркун генерал Оржевский.
Фигнер приговорили к повешению. Виселицу заменили вечной каторгой; мгновенную смерть – медленной. И все же Вячеслав Константинович предпочел бы увидеть Фигнер на эшафоте, как Перовскую и Желябова, хотя к Перовской и Желябову он не питал столь затаенной, личной, неизгладимой ненависти.
Фигнер он первую предназначил Шлиссельбургу. Еще только воздвигали новую тюрьму, а он уже определил туда «ужасную женщину». Однако пока мысленно. Когда новую тюрьму закончили постройкой и директор департамента своею рукой писал перечень узников, он не назвал Фигнер. Вячеслав Константинович не хотел дать повод Оржевскому злословить в гостиных о его, Плеве, мстительности. Лишь выждав несколько месяцев, он обрек Шлиссельбургу и Веру Фигнер – среди прочих проданных Дегаевым.
Тем временем генерал Оржевский комплектовал штат «чинов управления Шлиссельбургской тюрьмы». Требовались не просто безупречные служаки. Требовались подвижники, столпники. Эдакие мундирные Никиты Переяславские и Саввы Вишерские. Ведь их ожидали почти безысходные годы на том же острове, в той же крепости, что и других подвижников, других столпников – от революции.
Генерал разослал шифрованные депеши во все губернские жандармские управления. Он объявил нечто вроде конкурсных испытаний. Но главного, наибольшего генерал определил без промедления, без колебания – Соколова Матвея Ефимовича.
Святой Федор Тирон покровительствовал полицейским и стражникам; Матвей Ефимович Соколов годился в покровители самому Федору Тирону. Цербер стерег царство мертвых, Соколов стерег Алексеевский равелин. Цербера усыпил Орфей; Соколова не усыпила бы и дюжина Орфеев. Цербера связал Геракл; Соколов бы и на Геракла надел смирительную рубаху. Цербера можно было соблазнить медовой коврижкой, Соколова – ничем и никогда.
Правду сказать, Оржевский внутренне ежился при виде этой рослой, но столь широкой в груди и плечах особи, что она казалась почти квадратной. Страшили в Соколове не мясистая, бурая, губастая, бородатая физиономия, не тяжелые короткопалые руки, находившиеся в непрестанном движении, будто отыскивая, что бы это такое смять, сжать, сдавить, раздавить, и даже не общее выражение тупой, механической, нерассуждающей исполнительности, а глаза. Глаза у него были темно-серые, словно насухо вытертые, редко и внезапно мигающие, ничего не отражающие и не выражающие, но одновременно зоркие, цепкие, как бы всасывающие все, на что уставлялись.
И генерал-лейтенант Оржевский, и другой генерал, комендант Петропавловки, и тайный советник Плеве, и жандармские полковники – все, кто знал и видел Соколова, знали и видели, что ему нет решительно никакого дела до чинов, званий, привилегий любого из них, а есть только исполнение обязанностей, и что, ежели прикажут, он с невозмутимой неукоснительностью любого закует в кандалы.