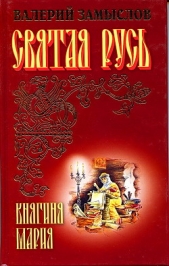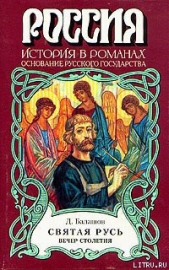Святая Русь. Книга 1
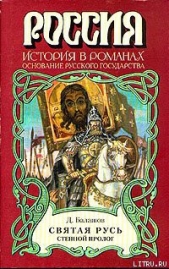
Святая Русь. Книга 1 читать книгу онлайн
Роман «Святая Русь» очередной роман из многотомной серии «Государи московские». События представляемых здесь читателю начинаются с 1375 года, и включают в себя такие события, как Куликово поле, набег Тохтамыша на Москву и т. д.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Стариков, баб с дитями и скотиною — в лес! Хлеб — зарывать!
Сам он с обозом уезжает в Москву по приказу владыки…
Мать вышла на крыльцо. Медленно — верно, каждый шаг давался с болью — спустилась по ступеням, прошла в хлев. Иван сбрусвянел, подумавши вдруг, что мать вышла за нуждою, хоть ей и поставили с вечера ночную посудину, дабы не смущать сына с невесткой. С болью и жалостью пришло, что не сообразил отнести матерь на руках! И опять в сердце шевельнулось глухое отчаяние. Примыслилось детское, страшное: как матерь рожала в лесе и как он, замерзая и засыпая, правил конем…
— Матушка! — кинулся к Наталье, подхватил, донес до крыльца. — Может, со мною, всема, на Москву?
Наталья покрутила головой, отрицая. Старческой сморщенной и влажной рукою коснулась его лица.
— Тамо, на Москве, не знай, что и будет ищо! Князя нету! Без тысяцкого… Пакость какая, колгота… Сестру, Любаву, береги! А мы с Машей в лесе отсидимся! Бог даст, и ребеночка приму, ежели…
Как ни поверни, права была мать!
Он проводил их о полден. Мать, замотанная в теплый плат, сидела, вытянув ноги, в телеге, на сене, держась за ее края и привалясь спиною к лубяной коробье с добром, подпираемая мешками с мукою, копченым окороком и двумя большими сырами. Маша устроилась у нее в ногах. Жалобно улыбнулась Ивану, когда он, вынося забытую кадушку топленого масла, увидел на ней старинные прадедние сережки — два золотых солнца с капельками бирюзы в них.
— Надела, чтобы не потерять… Не осудишь?
Когда-то вместе рассматривали дорогой дар, и Иван пересказывал теперь уж и вовсе небылую повесть о любви прадеда к тверской княжне, подарившей ему когда-то на память эти два маленьких солнца…
— Сбереги! — ответил. — Когда-нибудь наш сын своей жене подарит в черед!
— Обнялись.
Мать еще раз перекрестила Ивана, пообещала вновь:
— Буду жива, сохраню!
Немой парень ожег лошадь кнутом, телега тронулась, затарахтела, качаясь на выбоинах дороги. Иван, уже верхом, долго глядел им вслед.
В терем (беспременно сожгут!) заходить уже не стал. Его ждала дорога, ждали возы, и он не ведал, успеет ли довезти обоз до Москвы или татары схватят их дорогою. На всякий случай вздел бронь, привесил шелом к седлу, захватил отцову саблю и колчан с тулою. «Дешево не дамся! — подумал. — Хошь одного, да свалю!» Возчики, оборужась топорами и рогатинами, видимо, думали то же самое.
— С Богом! — сказал Иван, когда телега с матерью и Машей скрылась за бугром.
Заскрипели оси тяжелых возов.
«Прощай, родимый очаг! Прощайте, хоромы, которые я вижу, верно, в последний раз!»
Только пепел и стужа остаются на русской земле после каждого вражеского нашествия! Почему же живет народ, чем держится? Почто возникают вновь и опять рубленые прясла городень и сожженные деревни? И упрямая молвь, и величие храмов, и колокольные звоны, о которых больше всего тоскует русское сердце на чужой стороне? Как поется в горестной песне о полонянке, угнанной в далекую степь:
Не слыхать тут пенья церковного, Не слыхать звону колокольного…
Что держит? Что позволяет восставать вновь и вновь? Преданья веков и вера! Пока не умрет последняя старуха, выносящая из избы во время пожара иконы прежде портов и узорочья, дотоле будет жить, восставать из пепла всех вековых разорений и стоять нерушимо Святая Русь.
Глава 18
…Кони — в мыле. Уже по всей дороге вороватые обозы и толпы беглецов, заполошный зык: «Татары!» и то, что больнее всего: по сторонам недожатая, брошенная рожь, несвершенные суслоны, раскиданные, не составленные даже в бабки снопы, забытые прямо в полях корчаги, серпы и горбуши. Беженцы прихлынувшей волною заполняют дорогу, суются под колеса, вопят:
— Куды? Бросай все, сваливай мешки, татары зорят!
И тогда по ополоумевшим мордам — кнутом, и тогда — саблю из ножен в сумасшедший просверк смерти:
— Отступи, развалю наполы!.. Мать…
А когда отхлынут и опустеет дорога, у возчиков становятся резче желвы скул и на лицах сквозит залихватское отчаяние, когда то ли в сечу, башку очертя, то ли в бег безоглядный… Вот-вот из-за тех вон кустов, вослед этой воющей сволочи, вынырнет вооруженная татарва! Не отбиться ведь! Как там старшому, а нам почто гибнуть?
Иван мрачно, отцовым тяжелым взглядом, обводит тогда рожи своих мужиков и не стыдит, не ободряет даже, а: «Скорей, мать!.. Раззявы!» Кони — из последних сил. Взъерошенная шерсть мокра, с отверстых пастей капает пена, оси возов визжат, и временем подступает такое: а не опружить ли весь тот Киприанов клятый хлеб в канаву да не дернуть ли в бег? Нельзя! Себя уважать не станешь опосле! (А себя уважать русичу — первее всего!) И потому: «Наддай! Эх, милые вы мои!» «Милые» — это коням, не людям. Людям сейчас мат и плеть, людей надобно неволить и гнать, не отступая на миг, не то — все в россыпь, в бег, весь обоз, и тогда — конец!
До Москвы (запоказывалась уже!) все не ведал, не верил. И когда уже в виду города вымчали какие-то косматые, зло приобнажил саблю: не дамся же!
Лягу, а не дам гадью повады той! Но татары оказались свои, Серкизовы.
— Скарей! — кричали. — Фроловски ворота правь!
И — вбросил саблю, и — почти в слезы (тех, скуластых, облобызать готов: свои, свои же!).
А кони, хрипя, качаясь, скалясь, и клочьями пена с губ, словно на смерть, словно под обух лезли, дрожащими, неверными ногами, горбатясь, копытами вкривь и врозь, лезли уже в гору, в толпу, в спасительный зев крепости…
В Кремнике стоял ад. Кто рвался в город, кто из него. В воротах шла драка. Ратники городовой тысячи и владычная сторожа древками копий расталкивали ополоумевших горожан. Кого-то волокли по земи, а он орал благим матом, кого-то, залитого кровью, били всмерть, неведомо за что.
Люди шли по головам, топоча обломки раздавленного боярского возка — крошилась под ногами слюда дорогих, писанных травами оконниц, — наступая на трупы задавленных горожан.
Владычный обоз, приведенный Иваном, затаскивали буквально на руках, словно тараном прошибая гружеными возами плотную ревущую толпу. Четверых мужиков Иван после так и не досчитался. Верно, от ворот ударили в бег.
Селян Иван не винил. Тут и горожанину было ополоуметь в пору. Кое-как пробились к владычным хоромам. Выпрягли и напоили жалких, трясущихся одров, в коих превратились добрые крестьянские кони за этот с сумасшедшей скачью стремительный путь.
— Федоров! — окликали с крыльца. Иван, кинув возчикам: «Выгружай!». — тронулся вперевалку, отстранив двоих-троих мятущихся служек, подошел к важному, в палевом облачении, однако донельзя растерянному клирику.
— Татар не видал ле дорогою? — вопросил тот.
— Кабы видал, дак не стало б меня тута с обозом! — зло отверг Иван. — Людей кормить будут али как? — вопросил в свой черед.
— Кормить? — Клирик явно мало что понимал, однако внял в конце концов, засуетился, кликнул кого-то. Ивану бросил через плечо:
— Ты пожди!
Мужиков, и верно, скоро увели кормить. Кули с рожью мордатые владычные молодцы начали затаскивать в амбар, и Иван вознамерил было податься со двора. Но захлопотанный клирик выбежал вновь.
— Федоров, Федоров, ты куда? — И потянул его за собою.
Иван не очень удивился, когда в укромном, богато уставленном покое со множеством книг и драгоценною украсой божницы узрел за столом человека в расчесанной, словно литой, бороде, вишневом облачении с широкими рукавами и усыпанной жемчугами панагией и золотым крестом на груди — то был сам Киприан.
Иноземный владыка обратил к Ивану ищущий взор. На столе в витом серебряном свечнике горела свеча. По сумраку в углах кельи Иван догадал, что уже вечер, и с трудом вспомнил, что смеркалось и на дворе, а завидя блюдо дорогой рыбы, хлеб и питие в разнообразных кувшинах, понял, что зверски хочет есть.
Киприан начал было говорить, но, завидя прямой, блистающий, неотрывный взор Ивана, уставленный на снедь, мановением длани предложил: