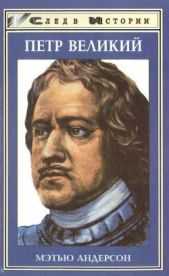Петр Великий (Том 2)

Петр Великий (Том 2) читать книгу онлайн
В трилогии К. Г. Шильдкрета рассказывается о реформах, проводившихся Петром Великим, ломке патриархальной России и превращении её в европейскую державу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Аминь, – вскинул тенором Меншиков.
– Аминь, – дружно подхватили солдаты и некоторые из высокородных.
– Аминь, – низко и глухо, как клубы пара под тлеющей кучей навоза, заворочалось в задних рядах.
Соковнин не остался на трапезе, устроенной в честь отъезжающих, и прямо из Преображенского укатил домой. Хмуро, как чужого, недоброго человека, встретил его отец:
– Едешь, стольник царёв?
– Еду, родитель.
– А возвратясь, где мыслишь жительствовать?
Стольник не понял вопроса.
– Где же, как не в отчем дому?
Сидевшие за столом сёстры хозяина, ярые ревнительницы древнего благочестия, с таким остервенением заплевались. как будто увидели перед собой из гроба восставшего Никона.
– Чтобы в хороминах Соковниных духом басурманским смердело? Да не бывать позору сему! Скорее до отъезду твоего изведём тебя зельем да захороним по христианскому чину, нежели на соблазны богомерзкие да на души погибель отпустим тебя за рубеж!
Стольник пал на колени:
– Христа для по глаголу вашему сотворите! Сам токмо и мыслю о сём.
В дверь постучались. Все сразу угомонились. Алексей Соковнин встревоженно открыл дверь.
В трапезную вошли Фёдор Пушкин и Цыклер. Узнав, о чём кручинятся хозяева, подполковник истово перекрестился.
– И не хотел бы сетовать, да не могу. Уж больно небрежением живёт государь, не христиански, и казну тощит. – Но тут же обнадёживающе улыбнулся: – Одначе не к лику нам ныне тужить. Радуйтесь и веселитесь, други мои сердешные, царь бо подался уговорам Григория Семёновича, посылает меня на Азов.
– Ужли? – всплеснул руками хозяин и бросился в объятья Цыклера.
Выпроводив сестёр и сына, Соковнин запер на засов дверь и приступил к сидению.
С большой осторожностью, занавесив предварительно оконце, подполковник вспорол ножом подкладку кафтана и вытащил из прорехи свёрнутую трубочкой бумагу.
– От четырёх стрелецких полков; из Гордоновой дивизии: Федора Колзакова и Ивана Чернова; из Головинской: Афанасия Чубарова и Тихона Гундертмарка. Через Фому Памфильева, – зажав рукою рот, чтобы возможно больше заглушить слова, объявил он, – цидула сия доставлена мне вечор.
– Что ответствовать будем? – спросил Цыклер, прочитав бумагу и пряча её снова за подкладку кафтана.
– Да тут и думать-то нечего, – красный от удовольствия, тряхнул головою Пушкин. – «Еду-де» – и вся недолга.
Когда ответ на цидулу был написан, все встали с лавки и трижды перекрестились – дали друг другу безмолвную клятву с честью и преданностью довести до конца общее дело.
Страшные дни пережили Цыклер, Пушкин и Соковнин: один из стрельцов, передавших подполковнику грамотку от Фомы, был арестован. Стрельца обвинили в тайных связях с царевной Софьей.
Заговорщики были уверены, что арестованный, доведённый пытками до отчаянья, выдаст их. Но они ошиблись. Как ни старался Ромодановский, от узника ничего добиться не мог. Стрелец, сложив на плахе голову, не предал никого.
Ответ Памфильеву так и лежал в кафтане Цыклера. Подполковник не рисковал передать его через выборных стрельцов, с которыми держал связь, – боялся, что они находятся под особым наблюдением соглядатаев.
После долгих размышлений он решил обратиться за помощью к Титову, единственному человеку, которому раньше доверяли сообщники и не такие тайны.
Подполковник чистосердечно рассказал обо всём Титову:
– Последняя челобитная к тебе от другов твоих. Выручи, Григорий Семёнович, съезди, словно бы потехи ради, верфи воронежские поглазеть да передай цидулу в Киреевский скит. Ни один человек не догадается, что ты с собою везёшь. И царь к тебе милостив, и ближние его почитают тебя, как и он, блаженной души человеком.
Если бы Цыклер не упомянул о царе, стольник, не задумываясь, в самой резкой форме отказался бы выполнить поручение. Но боязнь показать себя трусом перед бывшими единомышленниками сделала своё дело – подсказала совсем не те слова, которые готовы были уже сорваться с языка:
– А пущай хоть блаженным, хоть чурбаном меня царь почитает. Мне наплюнуть. Нынче же еду!
Всю ночь Титова томили жестокие сны.
Осунувшийся, похудевший и сгорбленный, он, как обычно в серьёзном деле, отправился утром к Петру Андреевичу за советом.
– Как быть? – со слезами на глазах обратился он к Толстому. – Ты один у меня остался друг, знаешь всю мою душу. Не могу я больше с крамольниками заодно идти. Хочу в мире жительствовать и в добре. Загубят ведь меня, потянут за собою на плаху.
Толстой знал уже главное от ключницы Цыклера, которую сумел подкупить, но с глубоким сочувствием выслушал стольника, и потом долго сидел, уставив в него неподвижный, затуманенный кручиною взор.
– Деллла! – вздохнул он наконец – Д-да, делишки, скажу вам…
Он так ничего и не посоветовал стольнику, но обещался хорошенько обдумать все и зайти к нему вечером.
…В ту ночь царь был особенно весел. Сознание, что он едет наконец за рубеж, кружило голову во много крат больше самого крепкого хмеля. К Лефорту, Головину и Возницыну, вдохновителям поездки, Пётр был так трогательно внимателен и дарил их такими горячими поцелуями, что Анна Монс делала вид, будто сгорает от ревности.
Не по мысли было и другим предпочтение любимцам, оказываемое государем.
Даже всегда тихий брат Евдокии Фёдоровны, Лопухин, посмелевший в хмелю, не выдержал и ощерился на Лефорта.
– Ты хоть и человек забавный, – привстал он, – а всё ж не егози и не кичись. Думаешь, ежели нонеча царь к тебе милостив, то ты уж и впрямь самый тут важный?
Глаза Петра, в которых только что фонтаном били радость и бесшабашное веселье, зажглись такими жуткими искорками, что Лопухин оцепенел.
– Так вот же! – лязгнул зубами царь и, схватив ендову [201], изо всех сил швырнул ею в лицо шурина.
Лопухин как подкошенный рухнул на пол.
В терем вошёл Пётр Андреевич Толстой. Государь, позабыв о шурине, всю силу гнева перенёс на дворянина:
– Вон! Вон отсель! Вон, покель я из тебя падаль не сотворил!
Спокойно, с кичливой улыбкой на устах, стоял Толстой у двери. И только когда над головой его взметнулся кулак, он чуть отстранился и отвесил земной поклон:
– Стоит ли, ваше царское величество, верных холопей казнить, когда за спиной твоей благоденствует и козни готовит измена?
С такой же быстротой, как недавно бесшабашное веселье, гнев сменился ужасом.
– Измена?!
– Да, государь.
В зале стояла болезненно-жуткая тишина. Даже Лопухин перестал стонать и, позабыв о разбитой скуле, вытаращился на царя и Толстого.
Пётр Андреевич, все с той же кичливой улыбкой, не торопясь, зашептал что-то на ухо царю.
Четвёртого марта семь тысяч двести пятого года [202] казнили Цыклера, Соковнина и Федора Пушкина.
У Новодевичьего монастыря гарцевал сильный конный отряд. По всей Москве были сняты стрелецкие дозоры, их заменили семёновцы и преображенцы.
Перед самой казнью Пётр вспомнил вдруг о главном вдохновителе всех былых стрелецких бунтов, умершем уже как двенадцать лет – дядьке своём по матери, Иване Михайловиче Милославском.
Меншиков, Шафиров и Яков Брюс по приказу Петра вырыли мертвеца из могилы и бросили в сани, в которые были запряжены шесть пар свиней.
Впереди поезда, через всю Москву, с весёлыми песнями шагал в полном составе всешутейший собор.
Неслыханное святотатство так возмутило толпу, что она с проклятиями бросилась к саням и потребовала выдачи трупа.
В тот же миг Меншиков подал знак преображенцам. Грянул залп. Улица опустела.
По случаю того, что больше никаких «недоразумений» не произошло, князь-папа, остановившись у околицы Преображенского, отслужил «благодарственные Бахусу молебствия за успешный поход и грядущее возлияние, события сего достойное».
Осушив два бочонка вина, собор с пляской, собачьим лаем, похабными песнями и свистом двинулся к месту казни…