Истоки
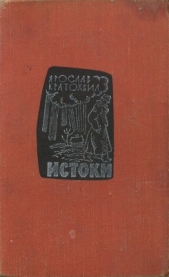
Истоки читать книгу онлайн
Роман Ярослава Кратохвила «Истоки» посвящен жизни военнопленных чехов и словаков в революционной России 1916–1917 годов. Вместо патетического прославления «героического» похода чехословаков в России Кратохвил повествует о большой трагедии военнопленных — чехов и словаков, втянутых в контрреволюционную авантюру международной реакции против молодой России, и весьма неприглядной роли в этом чехословацких буржуазных руководителей, а так же раскрывает жизненные истоки революционного движения, захватывавшего все более широкие слои крестьянства, солдат, как русских, так и иноземных.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мартьянов положил на белую скатерть свои руки — полные, гладкие, но широкие, с сильными пальцами.
— Вот только эти энергичные руки могут удержать любое правительство, могут спасти родину. Ваше здоровье, Петр Михеич. — Мартьянов подвинул гостю рюмку. — И нехорошо обижать нас — надо нас поддерживать!
Над серым, черным и белым городом, зацветающим красным, поднимается высокое синее небо, затянутое белесой дымкой.
Глубоко под ним, растоптанные в грязном тающем снегу и слякоти, лежат улицы окраин, тихие, опустевшие. Сегодня их оживляют только стайки беззаботных детей.
Снег, слегка подмерзающий в долинах вечерних теней, усеян отбросами. В снеговой луже сверкает солнце и чистота небес. Из-под ворот, изгрызенных собаками, выбегает звонкая струйка воды, смешанная с навозной жижей, и, пенясь, кружит размокший обрывок бумаги.
Со дна пустынной окраинной улицы, с обрывка бумаги, плавающей в грязной воде, взывают к высокому глухому небу черные буквы.
Божией милостию мы, Николай Второй, император Всероссийский, царь польский, великий князь финляндский… объявляем всем нашим верноподданным…
…почли мы долгом отречься от престола государства российского, сложить с себя верховную власть…
И в конце обрывка, вдавленного чьим-то сапогом в грязную навозно-снежную кашу, можно разобрать набранную крупно подпись:
89
Лейтенант Томан, не в силах долго оставаться в лагере, забежал еще к Коле Ширяеву, надеясь там где-нибудь у дома вдовы Палушиной снова встретить Соню.
Ширяева дома не было, и солдат, опять вышедший к нему из кухни, проявил еще большую подозрительность.
Вдова Палушина сидела дома одна, всеми покинутая и перепуганная. Соню вот уже несколько дней и дома-то не видели. Старуха, держа перед собой фотографию сына, возводила глаза к иконе, хваталась за сердце и все твердила вздыхая:
— Ах боже мой, боже мой, где ты, дитятко мое, Гришенька! Скажите, что же это творится на белом свете?
Томан поспешил уйти. Не надевая фуражки, он постоял на знакомой грязной улице в слабой надежде дождаться хотя бы Ширяева.
От будничной земли, от улицы, втоптанной в грязь, от манифеста, плавающего в луже, взгляд его убегал к небу.
Под вечер он еще раз попытался найти агронома Зуевского. Но тот еще не заходил домой, и домашние отвечали, что не видели его со вчерашнего дня. Зато у Зуевских он нашел Соню.
Она тоже уже несколько ночей не ночевала дома.
События захватили ее, а Михаил Григорьевич завалил неотложной работой для партии эсеров, так что ей невозможно было вырваться. К тому же и дети Зуевских, найдя ее вечером в комнате между спальней родителей и детской, где прежде жила няня, не желали отстать от нее.
Сегодня Томан впервые разговаривал с Соней, как с давним и близким товарищем. Он сел около девушки и, не спуская с нее, еще взволнованной, глаз, не удержался и сказал ей:
— Вы сразу как-то изменились!
Соня слегка нахмурилась и ответила неестественно серьезно:
— Все мы выросли. — Она подумала немного. — Ведь это все замечательно! Замечательно! Просто не верится.
Дрогнули ресницы ее широко открытых глаз, и Соня порывисто вздохнула, проглотив какое-то рвавшееся наружу слово. Не сразу смогла она продолжать.
— А Михаил Григорьевич… — сказала и запнулась на этом имени, и опять в волнении замолчала.
Она отвела взгляд от Томана и стала смотреть в окно, залитое печалью зимнего вечера. Четко рисовались в окне очертания крыш и колоколен. В голубоватых сумерках силуэт собора казался молчаливее и торжественнее обычного. Томан невольно вспомнил о крестном ходе, столь безнадежно тянувшемся сегодня от деревни к городу.
— Мужики тоже молились за революцию, — сказал он усмехнувшись.
Но Соня сохранила взволнованную серьезность.
— Конечно, ведь это так замечательно. А Михаил Григорьевич…
Она опять запнулась. И глаза ее, обращенные к окну, распахнулись, как крылья перед полетом.
— Я чувствую, — ее голос дрожал, Соня сдерживала дыхание, — что это превыше всего. Я это понимаю — сердцем. Во мне все воскресло. Когда я была маленькой, наша соседка умела очень страшно рассказывать о страданиях Христа… как он ради спасения людей… принял терновый венец. Мне, глупышке, потом всегда становилось страшно в церкви, а по ночам сердце мое кричало, словно звало на помощь, но я не за себя боялась… мои мысли были о том, на кресте, в зерновом венце… Ведь это он — за нас, за нас!..
Соня светло улыбнулась; нежные слезы дрожали в ее голосе и едва-едва не выступали на глаза.
— Мне хотелось плакать, но я не плакала… так я была потрясена. Какая я была дурочка! Боялась даже заплакать. Это было суровое познание… как мороз. Я вся дрожала… так это меня трогало! За нас, понимаете: за нас, за нас!
Угасающее небо, бледная звезда, черные силуэты крыш, колокольни, торчащие прямо вверх, — все это действительно было исполнено чистой и торжественной строгости. И раскрывшееся сердце Томана пронзило трепетное волнение и жажда впитать в себя силу и веру самих звезд. Оно хотело быть одновременно и гранитом, и тихой озерной гладью, которая содрогается от вечернего ветерка.
Девичьи глаза в росинках слез отразили гаснущее небо.
— А Михаил Григорьевич… — в третий раз начала Соня и опять сделала судорожный глоток, так и не закончив фразы.
Видно, слишком много чувств нагромоздилось перед этой мыслью, и слабое слово не могло пробиться через них.
Зуевский пришел домой поздно ночью. Соня еще не спала. Услышав за стеной его веселый голос, она сдавила скачущее сердце и, по-детски приоткрыв рот, прислушалась к ночному говору.
Непривычно веселые слова Зуевского и тяжелый голос его жены заглушил скрип супружеского ложа. Разговор задохся в жарком шепоте.
Потом и эти звуки провалились, как свинец, в тишину, которая застыла в неподвижности, заполнив слух и окаменевшую душу Сони.
Соня резко натянула на голову одеяло, и оно заглушило плач. Девичий плач рвался сквозь стиснутые зубы, как кровь из раны, и зубам хотелось вырвать из тела изболевшееся сердце.
90
Дни неслись, как сухие листья, сметенные ураганом, Они закружились, перемешались и утратили свои приметы. Увлеченная вихрем стремительных событий, стала раскачивать массивное время молодость, всегда жадная к переменам.
Мысль о том, чтобы выразить свое отношение к великим событиям, возникла стихийно в первый же день, но только, получив известия из других лагерей, пленные чехи решились ее осуществить. И тогда уже сердца переполнились нетерпением и спешкой, словно паруса ветром.
Сразу же, единогласно, была избрана депутация, и лейтенант Петраш, не дожидаясь избрания, взялся за дело и быстро написал поздравительный адрес. Кадету Боровичке поручили красиво переписать адрес под наблюдением лейтенанта Фишера; Томана, появившегося после того, как решение приняли, просто включили в депутацию, попросив снять красный бант хотя бы на время, чтобы не раздражать полковника Гельберга.
Кадеты глазели из окон вслед депутации, пока она не скрылась в дверях комендатуры.
Сонный писарь поднял голову от пишущей машинки, и Петраш сказал ему чуть ли не повелительным тоном:
— Прошу доложить о нас господину коменданту.
— Нельзя! — с оскорбленным видом отказал писарь. — Пленным положено обращаться по своим делам только к господину поручику.
— Нельзя! — с непринужденной четкостью вернул ему Петраш. — Мы не по делам пленных. По весьма важным причинам мы должны говорить именно с господином комендантом.
Самоуверенность Петраша смутила писаря. Он оглядел по очереди всех трех членов депутации, потом нерешительно приложил ухо к дверям кабинета полковника Гельберга и наконец вошел в дверь. Но он скоро вернулся и ясно, твердо, даже с оттенком враждебности в голосе, заявил:


























