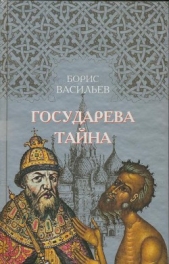Государева почта. Заутреня в Рапалло
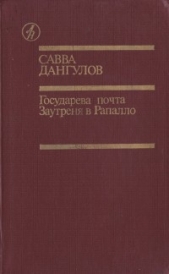
Государева почта. Заутреня в Рапалло читать книгу онлайн
В двух романах «Государева почта» и «Заутреня в Рапалло», составивших эту книгу, известный прозаик Савва Дангулов верен сквозной, ведущей теме своего творчества.
Он пишет о становлении советской дипломатии, о первых шагах, трудностях на ее пути и о значительных успехах на международной арене, о представителях ленинской миролюбивой политики Чичерине, Воровском, Красине, Литвинове.
С этими прекрасными интеллигентными людьми, истинными большевиками встретится читатель на страницах книги. И познакомится с героями, созданными авторским воображением, молодыми дипломатами Страны Советов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Опыт преодоления? Ну что ж, это немало, — произнес Чичерин, улыбаясь: ему была симпатична мысль молодого человека.
— Вначале падут границы, разделяющие страны, а потом языки, хотя первые охраняются, а вторые свободны, — произнес молодой человек со страстью, которая, если бы не его возраст, казалась бы в этот момент не очень понятной.
И вновь Георгий Васильевич задержал на человеке, сидящем рядом, внимательный взгляд. Сколько раз ловил он себя на мысли: «Не пренебрегай тем, что услыхал, ведь это единственное, что может тебя заставить заглянуть в будущее человека». Обладай Чичерин способностью видеть завтрашний день молодого человека, а может для весны двадцать второго года и послезавтрашний, он бы подивился верности этой своей мысли: в этот предмайский вечер в палаццо д' Империале рядом с ним сидел молодой Хемингуэй…
А вечер обретал все большую задушевность, и этому немало способствовал его главный заводила — с той веселой простотой, какая была свойственна умению Воровского разговаривать с аудиторией, Вацлав Вацлавович начал концерт и неподражаемо прочел Чехова — мудрая кротость и грусть, которые присутствовали в его чтении, казалось, отражали существо Воровского.
Пример Воровского воодушевил: большая делегация, состоящая из мужей почтенных, показала себя в неожиданном качестве — выступали все: читали стихи, плясали с самозабвенной страстью, делились воспоминаниями о поездках по белу свету; стихия доброго настроения завладела и хозяевами и гостями, все казалось значительным, остроумным, всем было весело.
А потом всесильный перст главного кашевара был обращен на Чичерина, и Георгий Васильевич пошел к роялю. Он коснулся пальцами клавиш, и все, кто был рядом, поняли! как ни значительно было все, чем блеснула до сих пор завидная импровизация, не в этом главное. Короче: то, что не сумели победить слова, сделала музыка. Да, именно музыка, лишенная конкретности слова, заставила мысль обратиться к существу. Точно возникла возможность сказать то, что не было до сих пор сказано.
Я сидел далеко от Георгия Васильевича и не рассмотрел его лица, но мне были доступны его глаза — в них мне виделись и доброта и храбрость, всемогущая сестра мудрости. И вот интересно: вечер, который начался столь бурно, завершился тишиной первозданной. Эта тишина чуть–чуть смутила и Чичерина.
Казалось, что это не музыка, а доверительный разговор. Все, что Чичерин хотел сказать, он приберег к этому вечеру. В этом монологе была та зрелость ума и чувства, которая единственно убеждает. Странное дело: не было произнесено ни единого слова, а добыты слова, которые обращали разум к неизведанному. Именно музыка делала твою мысль значительной. То, что ты был способен постичь сейчас, лежало за пределами твоих возможностей прежде. Будто только теперь ты понял существо происходящего. Волнение, которое дарила стихия звуков, очищало. Ты виделся себе больше, возвышеннее, сильнее, способным свершить такое, что до сих пор было для тебя не цо силам. Человек, сидящий за инструментом, точно объяснял происходящее, явилась та ясность видения, которую обретает человек не часто. Все казалось: отныне ты уже не сможешь говорить, как говорил прежде, иной образ мысли, сам язык иной… Наверно, это был тот род волнения, который способен и встревожить и открыть глаза. Музыка вытолкнула тебя за пределы мира, к которому тебя приковало время. Ничто не могло показать огромность этой новой вселенной, которую ты увидел, — музыка смогла… Было ли это достоинством человека, сидящего за инструментом, или музыки, которую он вызвал к жизни? Хотелось верить: и человека… Он жил в том же мире, что и ты, общаясь с тем же кругом предметов, понятий и слов, что и ты, а способен был сказать несравненно больше тебя… Когда человек перестал играть и сидящие в зале взглянули друг на друга, они увидели иных людей… Не отдал ли я себя во власть восторгу неуемному, не преувеличил ли все, чему только что был свидетелем? Наверняка преувеличил, но это то самое преувеличение, которое приближает нас к правде. По крайней мере так это понял я…
— Да надо ли было играть Бетховена? — спросил он, когда на исходе ночи я понес ему прессу: в предутренние часы, когда усталость подступала и к нему, он отдавался чтению прессы. — Не слишком ли это сумеречно для праздника, а? — Он точно встрепенулся, поняв, что говорит о собственной персоне, что было не в его правилах. — Вот получил телеграмму от Д'Аннун–цио, приглашает посетить его на Фиуме. Как вы полагаете? Д'Аннунцио — враг, но кто сказал, что надо избегать встречи с врагом? Надо ехать, но вот незадача…
— Да?
— Условие, обязательное, — разговор, но только… тет–а–тет…
— И как вы, Георгий Васильевич?
— Поеду.
— Один поедете?
— Один, разумеется.
— Совершенно один?
— Один.
Поздно вечером пришла Мария:
— Игорь тебя ждет внизу…
Я взглянул на часы: без малого одиннадцать.
— Не поздно ли? Завтра бог знает какой трудный день… — Я был близок к истине: начали паковать наше непростое имущество — отъезд был не за горами.
— Он просит, а ты как знаешь.
Мария вышла — она была верна себе: категоричность не в ее правилах. Я пошел.
Он встретил меня у старой туи, которая стала местом наших свиданий с ним.
— Видно, это последняя наша встреча, Николай Андреевич, — сказал он мне тихо, увлекая к выходу. — Не пожалейте же драгоценного часа — тут есть немудреная корчма, она сейчас открыта…
Я понял, что мне от Рерберга не отвертеться, и пошел.
Корчма была действительно немудреной: стойка с батареей вин и дюжина столиков, в этот поздний час пустых. Старик хозяин, чью дремоту мы нарушили, принес глиняный кувшин с вином, и, включив над нашей головой деревянную, в три рожка люстру, поковылял к стойке. Глиняный кувшин уберег вино от тепла — оно было холодным и утоляло жажду — апрельские вечера уже казались знойными,
— Я не питаю иллюзий, что сегодня вы будете ко мне добрее, чем вчера, но я все–таки хочу сказать то, что сказал час назад Марии. — Он не без азарта схватил кружку с вином, но не опрокинул ее, как прежде, а всего лишь пригубил: видно, наказал себе быть трезвым, что немало настораживало. — Скажу откровенно, Николай Андреевич: я пожалел, что пригласил вас и Марию в дом. Не стесняюсь сказать: пожалел… Вы, конечно, подумали: хозяин хочет быть хозяином, вошел во вкус. Нет, скажите — подумали… И этот дом и эта фабричка. «Фи! — сказали вы. — Гадко!» Однако хотите знать мое мнение? Не гадко! Согласитесь, Николай Андреевич: в том, что я показал вам все это, есть не только плохое, но и хорошее. Согласитесь, что можно подумать и так: Рерберг дал понять обо всем этом как на духу, значит, он совестлив и чист, значит, ему нечего скрывать и нечего бояться, а? — Он взял кувшин и, убедившись, что мое вино отпито, наполнил кружку. — Вот вам задача, Николай Андреевич: почему вчерашний пролетарий, у которого сроду не было ни кола ни двора, овладев состояньицем, в одни сутки становится капиталистом и ведет свое дело с такой охотой, а может и умением, как будто владел этой недвижимостью всю жизнь? Нет, нет, вы ответьте мне: почему?.. Не хотите отвечать, тогда отвечу я: этот инстинкт собственнический в природе человека! Нет, не только у меня и у того, что сидит сейчас за стойкой, но и у вас, Николай Андреевич… Разница только та, что у меня он пробудился, а у вас ждет своего часа, чтобы пробудиться. Мы ничего не знаем о человеке, Николай Андреевич, начисто ничего не знаем. Вы только оглянитесь вокруг: идет великая перековка людей, но только не та, о которой говорите вы там, у себя, а иная — рабочие становятся лавочниками! Да, токари, слесари, плотники, все те, кого вы именуете классом пролетариев, кто составляет вашу опору и суть вашего представления о современном мире, сколотив кругленькую сумму, становятся владельцами бакалейных, москательных, галантерейных лавок, держателями акций, пайщиками — они стригут купоны, черт побери, и им наплевать на мировую революцию!.. Если вы думаете обратное — простите меня, Николай Андреевич, вы не знаете жизни, а вот те, другие, эту жизнь знают: они сознательно превращают их из пролетариев в лавочников. Короче: человек не так бескорыстен, как вы думаете. И он не в такой мере лишен расчета, как это представляется вам. И он отнюдь не так далеко ушел от своего прошлого, как вы это возомнили… Все ваши просчеты, которые были и которые еще будут, — вы слышите, Николай Андреевич, будут! — вот здесь… Короче: вы в своей догме наивны и, простите меня, недальновидны! Скажу больше: вы все еще донкихоты, Николай Андреевич. Смешному племени донкихотов, в наш рациональный век истребленному дотла, вы дали жизнь, не сообщив ему смысла жизни. И первый из этих донкихотов — ваш Чичерин… Я думал все эти дни: кого, черт побери, он мне напоминает? Ну слепок, точный слепок. Кого? А сегодня точено прозрел: так это же батько мой бесценный! Такой же, простите меня, фантазер неудержимый! Вы говорите, что он, ваш Чичерин, пришел из завтрашнего дня и на веки веков останется его верноподданным, а по мне он — странный человек, который, простите меня, так и проживет свой век, не дав себе труда спуститься с небес на землю…