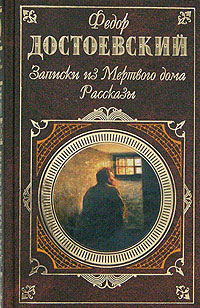Игра. Достоевский
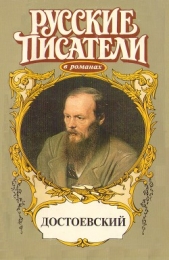
Игра. Достоевский читать книгу онлайн
Роман В. Есенкова повествует о том периоде жизни Ф. М. Достоевского, когда писатель с молодой женой, скрываясь от кредиторов, был вынужден жить за границей (лето—осень 1867г.). Постоянная забота о деньгах не останавливает работу творческой мысли писателя.
Читатели узнают, как создавался первый роман Достоевского «Бедные люди», станут свидетелями зарождения замысла романа «Идиот», увидят, как складывались отношения писателя с его великими современниками — Некрасовым, Белинским, Гончаровым, Тургеневым, Огарёвым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И все духовные силы необычайно в нём напряглись, и энергия в нём заклокотала ключом, и он ощутил необходимость направить эти силы, эту энергию на что-либо, хоть бы на что, всё равно, лишь бы ринуться в бой, лишь бы сию минуту погрузиться в работу, в этот прекрасный, в этот притягательный умственный труд. Никаких обстоятельств! Только вперёд и вперёд!
Он не приметил, как был уже на ногах, и шагал стремительно, быстро, весь действительно подавшись вперёд, на мгновение вспомнив, что она о чём-то плакала без него, Боже мой, этот ангел, должно быть, ужасно страдала она, и тут же об этом забыв.
Нет, Виссарион Григорьевич, тысячу нет, простите великодушно, кланяюсь вам, однако среда пока что не заела меня, и не заест, не заест, вы поглядите ещё! Стало быть, всё-таки не среда, не среда! Стало быть, он без минутного промедления окончит эту статью, непременно и этими днями, довольно с него! Обстоятельства, чёрт побери!
Что-то всё же слегка пошёптывало ему, что он не доспорил ещё, что имеются и ещё аргументы на той стороне, что ответ у него ещё приготовлен не весь, может быть, может быть, да ведь этак не видать и конца, спор-то можно пока что убрать, только факты, одни только самые голые факты: был таким и таким, то и то говорил, так и так поступал, главное, с математической точностью всё, одна только правда, тоже голая, несмотря ни на что, с тем и возьмите, вот так, и на всю вашу цензуру слишком плевать, тоже болваны сидят, и эти туда же, учредили среду, об этом пиши, а об этом не смей, дураки, обо всём же можно писать, сам Белинский какие вещи писал, пороховые бочки в подцензурном журнале, и вся ваша среда ему была нипочём.
И в тот же день за роман. Красавец — истинно современный герой, благороден, из самых мещанских натур, вот бы сто тысяч схватить, душу отдаст и продаст, однако претензия на самобытность ужасно большая, и на поэзию даже, что в таких-то натурах слишком нередко у нас, тут и весь-то самый важный вопрос: и без ста тысяч нельзя, и поэзии жаль, вот как бы одним разом всё получить, и сто тысяч и самобытность иметь, ан нет, брат, шалишь, невозможно коня и трепетную лань, что-нибудь надобно одно выбирать, а когда выбор есть, человек-то свободен от любых обстоятельств, сам, сам всё решил, математики нет, нет закона среды, есть одно право выбора и есть ещё чувство вины, если так ловко выбрал, что в скотину попал. Немного сложения, это уж непременно, у нежных чувство поэзии куда как острей, и насмешливость, разумеется, этак слегка свысока: мы, мол, так только, а никак не хуже других, вовсе нет, а за этим-то, разумеется, главнейшая мысль, что, мол, даже много и лучше, в этой мысли и самобытность-то вся, не в чём ином, этого у Красавца понимания нет. В одну молодую особу даже влюблён, в дальнюю родственницу свою, и объявлен уже женихом, это всё должно быть именно так. Ну а дальше-то что? Поэма, поэма-то где?
Впрочем, всё это мелко ужасно и дрянь, непременно должно роман о Христе, главное, сто тысяч не надо, а вот если есть у меня, так возьмите, и не из задней мысли, не из аферы какой, а просто так, от души, что ему эти сто тысяч, прах, и претензий потому никаких, просто как есть человек, в этом и вся самобытность его, и поэзия также, этим и не похож на других, без усилий, само собой, поищите других-то, чтобы сто тысяч отдал за так, нужно тебе, так на, мол, возьми, тут и выбора нет, тут и нечего выбирать, тут на все случаи жизни ответ сам собою готов, из нравственного закона в душе, не возжелай, не солги, обстоятельства бессильны над ним, однако есть ли свобода, если выбора нет, и какой же фантастический нужен сюжет? Красавец, тот в конце-то концов покорится среде, но станет страдать, непременно станет страдать и даже себя проклинать, может быть, а этот устоит перед давлением той же среды, останется честным и чистым, как был, однако, однако — не кончат ли оба одним?
Взгляд его всё же смягчился, углы рта стали понемногу приподниматься в довольной улыбке. Постороннее всё позабылось почти, на чужой стороне, денег нет, есть долги, всё теперь не имело никакого значения, провалилась среда, для чего здесь среда, когда он был властелин?
Нужна была героиня, ох как нужна. Влюбится в неё непременно! То есть кто же из них? Положим, Красавец прежде всего, поэзия-то должна же себя оказать, а она-то в другого, и тем мысль обоих раскроет. То есть как же в другого? Другой из другого романа! Так, героиня всё же нужна.
Ноги устали ходить, и он почти машинально сел за свой стол и уже совсем машинально принялся набивать папиросы. Пальцы с привычной бережностью брали фабричную гильзу, набирали фабричной машинкой грубый крупный табак, с быстротой, но с мягкой ловкостью вводили его в тончайшее хрупкое папиросное рыльце и так же мягко бросали в коробку.
Она должна быть, разумеется, нервной, подвижной и страстной, прямо огонь, мимо такой не пройдёшь, не влюбиться нельзя, но и похоть, похоть до ужаса будит во всех, плотоядные так и горят, тоже выбор, стало быть, есть, и большой, и с разных сторон, тоже изломана, нездорова, безумна, как нынче изломана, нездорова, безумна Россия, в лихорадке своей принявшая одну сытость за свой идеал, Боже мой, как же так? И тот непременно влюбился в неё, однако ж постой, который из двух, в который роман?
Э, да всё это потом, успеет ещё. Сперва её-то всю надобно знать до последней черты, то есть, разумеется, в первый роман, какой тут Христос, с тем романом за два месяца никак не поспеть, тот роман слишком портить нельзя, тоже выбор, выбор, бесспорно; ужасный, однако свободен, свободен и он. И это тоже потом. Главное, он ещё не видел её, только одно что-то смутное проступало перед внутренним взором, словно знакомое, близкое, но позабытое за дальностью лет, впрочем, давности лет никакой, да это не то, будто бы чёрные волосы, будто бы сильно и резко очерченный рот и этот гордый, гордый, так насквозь и пронзающий взгляд.
Пальцы стиснулись, готовая папироса сломалась, но он положил её в общую кучу, тем же порядком взял новую гильзу и долго держал, наклонясь, точно получше хотел рассмотреть и точно видел в ней что-то такое, что и было позарез необходимо ему, да, да, это судорога гневной улыбки начинала просвечивать сквозь туманную серую дымку, которая плотно укрывала её.
У него за спиной тихо плакала Аня, может быть, потому, что ей стало очень жалко себя, потом заплакала громче, словно хотела, чтобы он её услыхал, чтобы почувствовал вдруг, как ей тяжело, чтобы он жертву её оценил, которую она принесла, и пожалел хоть немного её, потом зарыдала навзрыд.
Он так и вздрогнул, по этой гневной улыбке чего-то именно в этом роде и ждал. Сильный чувственный рот был теперь странно сморщен и полуоткрыт. Искривлённые влажные губы приоткрывали кончики белоснежных зубов, а губы все кривились, кривились, дёргались, словно молили и в то же время презирали его, и он уже знал, что рыданье сменится истерическим хохотом, это уж так, в этом вся натура её.
Однако же хохота не было, слышалось только рыданье, и он обернулся стремительно, недовольный и резкий: кто там некстати мешал?
Аня повалилась как сноп на диван, и всё детское тело её содрогалось.
Боже мой, она проснулась, должно быть, в девять часов, как всегда, тогда как он спал до одиннадцати, а мог и больше проспать, и она мышкой часа два сидела одна у окна. Он сел за работу, она отправилась на прогулку одна. Он газеты читал, она дома сидела одна. Она смирялась, так было надо, она тоже сделала выбор, выходя за него, и вот опять часа два он сидел к ней спиной и делал свои папиросы, как могла она знать, чем он был занят ещё, он в глазах её был эгоист, не обернулся ни разу, не вымолвил слова, холодный, бесчувственный и совершенно в эту минуту чужой, и, должно быть, придумала от тоски, что и она совершенно чужая ему и что совсем, совсем ему не нужна.
Всё это в один миг пронеслось, и, подскочив к ней в два прыжка, он испуганно закричал:
— Анечка, Анечка! Ты это о чём?
Голова её бессильно моталась, а вопли рыданий сделались громче.