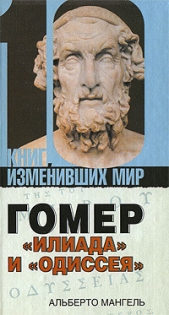Драгоценнее многих (Медицинские хроники)

Драгоценнее многих (Медицинские хроники) читать книгу онлайн
XVI век – Европа прощается со Средневековьем. Но не только в кровавых баталиях и жарких диспутах богословов рождался новый мир. Врачи переступают в это время через порог средневековой медицины. Они решаются нарушить многие запреты прошлого и подвергнуть сомнению то, что ещё совсем недавно казалось неопровержимой истиной…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Вы полагаете, лучше быть голодным? – спросил Рабле.
– Да.
Рабле обвёл взглядом зал.
– Думаю, нашего отсутствия никто не заметит. Я предлагаю небольшую прогулку. Вы никогда не были в Отель-Дьё?
Спорщики поднялись и вышли из шумной трапезной. С площади, украшенной огромным каменным распятием, они попали на берег Роны и двинулись по набережной Францисканцев, ещё столетие назад превращённой в подобие крепостной стены. В мирное время проход по ней был свободным, а вот Госпитальная набережная от церкви Милосердной божьей матери и до самого моста ещё со времён великого кроля Хильберта и его богомольной супруги Ультруфы принадлежала Отелю-Дьё. Невысокое здание кордегардии, поставленное поперёк набережной, преграждало проход, решётка низкой арки всегда была заперта.
Чтобы снять замок, требовалось письменное распоряжение одного из двенадцати ректоров, управлявших больницей. Но привратник, заметив, что к воротам направляются два одетых в шёлковые мантии и парадные малиновые береты доктора, поспешно поднял решётку.
Во втором дворе они круто свернули направо, поднялись по ступеням, Рабле толкнул двустворчатые двери.
На улице не было холодно, но в дверном проёме заклубился туман, такие густые и тяжёлые испарения заполняли здание. Мигель от неожиданности попятился, прикрывая рот рукавом. Пахло как возле виселицы, где свалены непогребённые, или как от сточной канавы, протекающей близь бойни. Поймав насмешливый взгляд Рабле, Мигель оторвал ладонь от лица и шагнул вперёд.
Огромная палата со сводчатыми потолками и высокими узкими окнами, плотно законопаченными, чтобы сырой мартовский воздух не повредил больным, была разгорожена решёткой на две половины. По одну сторону лежали мужчины, по другую – женщины. Застланные тюфяками широкие кровати стояли почти вплотную одна к другой, на каждой помещалось по восемь, а иногда по десять человек – голова к ногам соседа. И всё же мест не хватало, тюфяки стелили поперёк прохода, так что больные на них оказывались наполовину под кроватями своих более удачливых собратьев, а наполовину под ногами служителей.
В палате было шумно, словно на ярмарке в разгар торговли. Стоны, бред, разговоры и ругань, призывы о помощи. На женской половине истошно кричала роженица. Одетая в белое монашеское платье акушерка возилась подле неё, вторая, отложив в сторону бесполезное житие святой Маргариты, раздувала угли и сыпала в кадильницу зёрна ладана, готовя курение, которое должно облегчить страдания больной. Других служителей в зале не было.
Едва посетители появились в палате, как шум ещё усилился. Кто-то просил пить, другой умолял выпустить его на волю, третий жаловался на что-то.
– Господин! Ваше сиятельство! – кричал, приподымаясь на локте и указывая на своего соседа, какой-то невероятно худой человек. – Уберите его отсюда. Он давно умер и остыл, а всё ещё занимает место! Прежде мы по команде поворачивались с боку на бок, но он умер и больше не хочет поворачиваться, и мы с самого утра лежим на одном боку!
Рабле подошёл к кровати, наклонился. Один из больных действительно был мёртв.
Лицо доктора потемнело. Он решительно прошёл в дальний угол палаты, где виднелась маленькая дверца. Рванул дверь на себя:
– Эй, кто здесь есть?
Из-за стола вскочила толстая монахиня. Увидев вошедших, она побледнела и задушенно выговорила:
– Господин Рабле? Вы вернулись?
– Я никуда не уходил! – отрезал Рабле. – Где служители? Немедля убрать из палаты мёртвых, больных напоить, вынести парашу. Окна выставить, а когда палата проветрится, истопить печи.
– Но доктор Кампегиус не обходил сегодня с осмотром, – возразила монахиня. – Я не могу распоряжаться самовольно.
– Кампегиус болен, – вполголоса сказал Мигель. – Он третий месяц не встаёт с постели и вряд ли встанет когда-нибудь.
– Вы что же, третий месяц никого не лечите и даже не выносите из палаты умерших? – зловеще спросил Рабле.
– Нет, нет, что вы!.. – запричитала монахиня.
– Кто делает назначения?
– Господин Далешамп, хирург. Он сейчас на операции.
– Я знаю Далешампа, – подсказал Мигель. – Толковый молодой человек.
– Но он один, а здесь триста тяжёлых больных и по меньшей мере столько же выздоравливающих в других палатах. Вот что, Мишель, – Рабле прислушался к хрипению роженицы, – вы разбираетесь в женских болезнях?
– Да, я изучал этот вопрос, – Мигель подтянул широкие рукава мантии и, с трудом перешагивая через лежащих на полу, направился к решётке.
– Выполняйте, что вам приказано, – бросил Рабле толстухе.
– Я не могу! – защищалась та. – Сухарная вода кончилась, в дровах перерасход. Ректор-казначей запретил топить печи…
– Плевать на ректора-казначея! – рявкнул рабле таким голосом, что испуганная монахиня стремглав бросилась к дверям.
– Стойте! – крикнул Рабле. – Прежде откройте решётку. Вы же видите, что доктору Вилланованусу надо пройти.
Трудные роды пришлось закончить краниотомией, но саму роженицу удалось спасти. Когда усталый Мигель вернулся в комнату сиделок, палата была проветрена, в четырёх кафельных печах трещали дрова, вместо сухарной воды нашёлся отвар солодкового корня, и даже чистые простыни появились откуда-то. Рабле сидел за столом, на котором красовалась забытая в суматохе толстухой бутылка вина и початая банка варенья.
– Сестра Бернарда, на которую я так ужасно накричал, – сказал Рабле, – ходит за немощными больными уже двадцать лет. Это удивительная женщина. Её лень и жадность не знают границ. Мало того, что она пьёт вино, предназначенное для укрепления слабых, она без видимого вреда для пищеварения умудряется проглотить горы слабительного, – Рабле понюхал банку. – Так и есть! Варенье из ревеня с листом кассии. Я говорю – удивительная женщина. Меня она боится. Я два года проработал здесь главным врачом, и не было такого постановления совета ректоров, которого я бы ни нарушил за это время. Кстати, знаете, сколько они мне платили? Сорок ливров в год! В пять раз меньше, чем госпитальному священнику. За эти деньги надо ежедневно совершать обход палат, каждому больному дать назначение и проследить за его выполнением. Ещё мне полагалось надзирать за аптекарями и хирургами и бесплатно лечить на дому служащих госпиталя, ежели они заболеют. Плюс к тому – карантин и изоляция заразных пациентов. Это собачья должность, если исполнять её по совести. Но от меня требовали одного – не лечить тех, у кого нет билета, выданного ректором. А я лечил всех, не заставляя умирающих ожидать, пока в контору пожалует ректор. И если была нужна срочная операция, я заставлял хирурга проводить её, даже если больной ещё не получил причастия. Это многих спасло, но ректоры меня не любили и уволили при первой возможности. И всё тут же пошло по-старому. Если бы вместо этого дурака Кампегиуса на моё место пришёл Жан Канапе или вы, Мишель, то возможно, Отель-Дьё в Лионе был бы не только самым древним, но и самым благополучным госпиталем в мире.
– Я бы не смог, – сказал Мигель.
– Да, здесь страшно. Но теперь, надеюсь, вы понимаете, почему я хотел бы прежде всего видеть людей сытыми, весёлыми, одетыми и вылеченными, и лишь потом спрашивать с них высокие добродетели. Посмотрите, кто лежит здесь, это больные, им полагается щадящая диета. А чем кормили их сегодня? Похлёбка из засохшей и попросту тухлой плохопросоленной трески со щавелем и крапивой. Ещё они получили по ломтику хлеба и по кусочку той самой трески, из которой варилась похлёбка. Что они будут есть завтра? Похлёбку из солёной трески! И так каждый день. В лучшем случае, им дадут чечевичный суп или отварят свёклу. Неужели люди, которые так живут, способны увлечься иным идеалом, кроме сытного обеда? Вы скажете: те, что в четверти мили отсюда только что слопали годовой доход богатейшего епископства во всём королевстве, никогда не испытывали голода. Это не так. Вы врач и знаете, что такое фантомные боли. Единственный сытый среди голодной толпы неизбежно окажется самым ненасытным. В нём просыпается невиданная жадность. Такого невозможно образумить словом. Слово не пробивает ни рясы, ни лат.