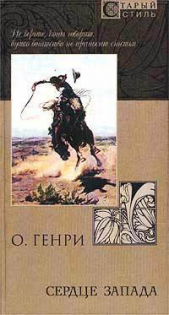Амелия
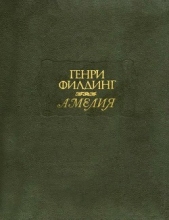
Амелия читать книгу онлайн
«Амелия» – четвертый роман Генри Филдинга, четвертый и последний.
Группа задержанных ночной стражей правонарушителей предстает перед судьей Трэшером, творящим скорый и неправый суд; затем один из задержанных – капитан Бут – оказывается в тюрьме. В тюрьме он неожиданно встречается с красивой дамой, тоже арестанткой, которую он знал несколько лет назад и которую, к его изумлению, обвиняют в убийстве…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Позвольте тогда поздравить вас с дочкой, – отозвался старый джентльмен, – ибо для такого человека, как вы, найти объект, достойный благоволения, это, полагаю, означает найти истинное сокровище.
– Да, – подтвердил доктор, – это поистине счастье.
– Ведь для людей вашего душевного склада, – добавил его собеседник, – величайшая трудность в том и состоит, чтобы отыскать того, кто достоин их доброты; ибо для души благородной нет ничего досаднее, нежели убедиться в том, что она сеяла семена добрых дел на почве, которая не может порождать иных плодов, кроме неблагодарности.
– Еще бы, – воскликнул доктор, – я прекрасно помню слова Фокилида: [266]
Но он рассуждает скорее как философ, нежели как христианин. Мне куда более по душе мысль, высказанная французским писателем, несомненно одним из лучших, кого я когда-либо читал; он порицает людей, жалующихся на то, что им часто платили злом за самые большие благодеяния. [268] Истинный христианин не может быть разочарован, если он не получил заслуженную им награду на этом свете; ведь это все равно как если бы поденщик вздумал жаловаться на то, что ему не заплатили за труды в середине дня. [269]
– Я, конечно, готов признать, – ответил гость, – что если рассматривать это с такой точки зрения…
– А с какой же еще точки зрения мы должны на это смотреть, – перебил его доктор. – Разве мы, подобно Агриппе, [270] только отчасти христиане? Или христианство лишь отвлеченная теория, а не руководство в нашей повседневной жизни?
– Руководство, вне всякого сомнения; вне всякого сомнения, руководство, – воскликнул гость. – Ваш пример мог, конечно, уже давно убедить меня в том, что мы должны делать добро всем.
– Простите меня, отец, – вмешался в разговор молодой церковнослужитель, – но это скорее соответствует языческому, а не христианскому вероучению. Гомер, насколько я помню, изображает некоего Аксила, [271] о котором он говорит, что тот
Однако Платон, который более всех других приблизился к христианскому вероучению, осуждал подобную точку зрения как нечестивую; так, по крайней мере, говорит Евстафий [273] в своем фолио на странице 474.
– Да-да, я прекрасно это помню, – подтвердил доктор Гаррисон, – и то же самое говорит нам Варне [274] в своих комментариях к этому месту, но если вы помните его комментарий так же хорошо, как процитировали Евстафия, то могли бы присовокупить и суждение мистера Драйдена [275] в поддержку этих строк Гомера: он говорит, что ни у кого из латинских авторов он не обнаружил такого восхитительного примера столь всеобъемлющего человеколюбия. Вы могли бы также напомнить нам благородную мысль, которой мистер Варне заканчивает свой комментарий и которую он почерпнул из пятой главы Евангелия от Матфея.
Вот почему мне представляется, что такое отношение Аксила к людям подобает скорее христианину, а не язычнику, ибо Гомер не мог заимствовать его ни у кого из своих языческих богов. Кому же мы в таком случае подражаем, проявляя благожелательность ко всем людям без изъятия?
– У вас поразительная память! – воскликнул пожилой джентльмен. – Тебе, сынок, и впрямь не следует состязаться в таких вещах с доктором.
– Я не стану спешить со своим мнением, – воскликнул его сын. – Во всяком случае мне известно, как истолковывает эти строки святого Матфея мистер Пул [277]… он говорит, что это означает только «собирать на их голову горящие угли». [278] И как нам, скажите пожалуйста, понимать тогда строки, непосредственно предшествующие тем, что вы процитировали… «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас?» [279]
– Вам, мой юный джентльмен, я полагаю, известно, – сказал доктор, – как обыкновенно истолковывают эти слова. Упомянутый вами комментатор, мне кажется, говорит нам, что здесь не следует понимать любовь в буквальном смысле, в значении душевной снисходительности; вы можете ненавидеть своих врагов, как врагов Господних, и стремиться должным образом отомстить им во славу Его, да и ради себя стремиться умеренно взыскать с них; но только вам следует в таком случае любить их такой любовью, которая совместима с такими вещами… то есть, выражаясь яснее, вы должны любить их и ненавидеть, благословлять и проклинать, творить им благо и зло.
– Превосходно! Восхитительно! – воскликнул пожилой джентльмен. – У вас неподражаемый дар обращать разговор в шутку.
– Что до меня, – заметил его сын, – то я не одобряю шуток, когда речь идет о столь серьезных предметах.
– И я, разумеется, тоже, – согласился доктор, – а посему я изложу вам свое мнение как можно более серьезно. Эти два стиха, [280] взятые вместе, содержат весьма определенную заповедь, выраженную самыми ясными словами и подкрепленную красноречивейшим примером поведения Всевышнего, и, наконец, следование это заповеди великодушно вознаграждается тем, что, как сказано там же: «…дабы вы могли быть детьми…» [281] и так далее. Ни один человек, понимающий, что значит любить, благословлять и творить добро, не может превратно истолковать смысл этих строк. Однако, если они все же нуждаются в каком-то пояснении, то его можно в достаточной мере найти в том же Священном Писании. Итак, «если враг твой голоден, накорми его, если жаждет – напои его; не воздавай злом за зло или ругательством на ругательство; напротив – благословляй». [282] И эти слова, конечно же, не нуждаются в пояснениях тех людей, которые, будучи не в силах склонить свои души к покорности заповедям Писания, пытаются перетолковать Писание в соответствии со своими склонностями.
– Как благородно и справедливо замечено! – воскликнул пожилой джентльмен. – Что и говорить, мой друг, вы чрезвычайно проникновенно истолковали этот текст.
– Но если смысл этих слов именно таков, – возразил юноша, – тогда должен наступить конец всякому закону и справедливости, потому что я не представляю себе, как после этого любой человек может преследовать врага по суду.
– Прошу прощения, сударь, – воскликнул доктор, – разумеется, никто не может и не должен преследовать обидчика просто как врага или из жажды мести, но как нарушителя законов своей страны – не только может, но и обязан. [283] Когда должностные лица или служители правосудия наказывают преступников, разве ими движет жажда мести? По какой еще причине они (по крайней мере в обычных случаях) заботятся о том, чтобы подвергнуть виновных наказанию, если не во исполнение служебного долга? Так почему тогда частное лицо не может передать обидчика в руки правосудия из тех же похвальных побуждений? Любого рода месть, конечно же, строго возбраняется, а посему – точно так же как мы не должны осуществлять ее собственноручно – мы не должны использовать закон в качестве орудия личной злобы и мучить друг друга враждебностью и злопамятностью. И разве столь уж затруднительно подчиняться этим мудрым, великодушным и благородным заповедям? Если месть и в самом деле самый лакомый кусочек (как угодно было назвать ее некоему церковнослужителю, [284] что не слишком-то служит к его чести) из всех, какие дьявол когда-либо ронял в рот грешника, то надобно все же признать, что угощение обходится нам нередко по меньшей мере слишком дорого. Это лакомство, если оно действительно является таковым, достается нам ценой больших тревог, затруднений и опасности. Как ни приятно смаковать его, после него неизбежно остается некоторый горький привкус; посему его можно назвать лакомством лишь отчасти, ибо даже при самом алчном аппетите наступает вскоре пресыщение, и неуемное стремление к нему очень скоро оборачивается отвращением и раскаянием. Я допускаю, что внешне оно кажется в какой-то мере соблазнительным, но оно подобно прекрасному цвету некоторых ядовитых зелий, от коих, сколь они не притягательны для нашего взора, забота о своем благополучии все же велит нам воздерживаться. И для такого рода воздержания нет нужды в каком-либо божественном повелении, а достаточно одного благоразумия, примерам чему у греческих и латинских писателей несть числа. Может ли поэтому христианин не испытывать стыда оттого, что для него в камень преткновения превратилась заповедь, которая не только согласуется с его мирскими интересами, но и диктуется столь благородным мотивом.