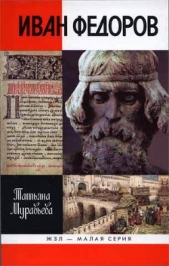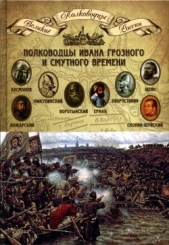Мятежное хотение (Времена царствования Ивана Грозного)

Мятежное хотение (Времена царствования Ивана Грозного) читать книгу онлайн
Исторический роман Евгения Сухова охватывает первые годы правления Ивана Грозного. Печатается впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Понял, государь, — едва вымолвил в волнении Малюта Скуратов.
— Все бояре у тебя вот здесь будут, — сжал кулак Иван Васильевич, — дохнул в ладонь, и нет их, — разжал пальцы Иван Васильевич. — Будешь служить мне собакой, почестями не обделю, а предашь… псом поганым помрешь!
— Государь-батюшка, да я ради тебя!.. Да я жизни не пожалею, — хватал Малюта в признательности полы государевого кафтана.
— Ну ладно, вижу, что любишь ты своего царя, а теперь ступай. И помни!
Малюта Скуратов дело поставил ладненько — количество шептунов во дворе увеличилось втрое, а в приказах бояре глазели по сторонам, прежде чем отваживались чихнуть. Подьячие приобрели такую силу, какую не имели бояре и, задрав носы, низшие чины ходили так, как будто каждый из них имел в кормление по большому городу.
Малюта Скуратов теперь знал о боярах все, как будто денно и нощно находился рядом, и не мог слушать без смеха о том, как сами Шуйские прятались по углам, когда хотели пошептаться.
Втайне от двора Григорий повелел заморским мастерам понаделать в темных комнатах слуховые окна, у которых рассадил своих людей, и те, меняясь у слухачей, словно в карауле, доносили Малюте последние новости. А они были разные: дочка Петра Шуйского слюбилась с молодым приказчиком и второй день появлялась на зорьке; два боярских сына разодрались из-за девки, и один другому вышиб глаз, а матерая вдовица Воротынская запила с молодым стольничьим, который годился ей едва ли не во внуки.
Малюта без утайки пересказывал Ивану Васильевичу все новости, и тот всегда слушал его с таким вниманием, как будто речь шла о нем самом. Государь громко смеялся, когда Малюта поведал ему о том, как престарелый боярин Иван Дмитриевич Бельский обнаружил в покоях молодой жены крепкого ухаря, князь после того с полчаса не мог вымолвить и слова, и самого его долго отпаивали отворотным зельем дворовые девки.
— Не ошибся я в тебе, Малюта, — ласкал Иван Васильевич холопа, — не ошибся, вот такой человек мне нужен: и крамолу может вывести, и государя своего распотешить. Так я развеселился, что слеза прошибла.
— А тут еще о царице разное худое глаголют, — подступал осторожно Григорий.
— Говори, Малюта, не тяни. Мне теперь все едино! Чего там такое болтают, что я не знаю?
Поводил Малюта в смущении глазами, а потом решился:
— Дескать, девок красивых в свой терем неспроста царица приваживает. Будто с ними в постелю ложится. По трое бывает! Вот они ее и ласкают.
Это известие для Ивана было новым. Крякнул государь с досады и произнес ласково:
— Продолжай, Григорий Лукьянович, продолжай, родимый, никто тебя не обидит, всю правду говори.
— Царица лично этих девиц благовониями натирает, а потом тело их целует. Неужто ничего не замечал, государь?
Как же не заметить такое! Бывало, прижмешь к себе черкесскую княжну, а она бабье имя выкрикивает. Неделю назад Иван Васильевич подписал указ о сожжении в срубе двух баб, которые были уличены в содомском грехе. Сожгли как ведьм, с позором, а народ пришел к месту казни праздный и разодетый, воспринимая происходящее как веселое представление. И даже истошный визг «ведьм», который повис над площадью, когда огонь, предвкушая обильную трапезу, стал с треском вгрызаться в осиновые бревна, не испортил благодушия и всеобщего весели.
Народ расходился с площади неохотно, как будто ожидал продолжения спектакля — вот сейчас выскочат к обуглившемуся срубу скоморохи с бубенцами и распотешат люд задиристыми шутками. А когда ждать уже было нечего, заплевали чадящие головешки соплями и разошлись.
Содомский грех так же страшен, как ведьмино лиходейство, и Иван Васильевич почувствовал, как страх пощекотал его нутро и замер где-то у пупка.
Царицу, как ведьму, не сожжешь. И плетей не дашь, чуть что не так, она башкой в петлю лезет.
— Ты про это никому не говори, — строго наказал царь Иван Васильевич. — А за царицей присматривай… Смотри-ка что делается-то, исчадие ехидное! А теперь ступай, Гришенька, и спуску боярам не давай.
Ласков был со слугой Иван Васильевич.
Малюта Скуратов не все рассказал государю. Вчера вечером одна из боярышень раскидала опилки по дворцовому саду, в тех самых местах, где любила гулять Мария Темрюковна. Уже в Пыточной, под плетьми, она призналась, что хотела навести порчу на царицу и что уже целый месяц забрасывает ее следы белым песком, когда ты выходит к Благовещенскому собору.
Царице и вправду занедужилось в последний месяц, и теперь Малюта не сомневался в той, что волхвование не прошло бесследно.
Никитка-палач с пристрастием допрашивал боярышню, и после каждого удара на теле девицы оставались следы от двенадцатиперстной плети.
Боярышня рассказала о том, что кроме нее порчу на царицу наводили еще три девицы и одна ближняя мамка, бабы подкладывали свои волосья ей под постелю, шептали заклинания на свечах и кололи иглами восковые фигурки.
А тут еще истопник объявился, что дежурил под дверьми у царицы, верные люди приметили, что держал он в руках лягушачий скелет, а это неспроста!
Малюта Скуратов пошел в Пыточную, где заплечных дел мастера, утомленные долгим днем, тихо попивала прохладный квасок. В Пыточной было зябко, несмотря на пылающий костер и жаровню, толстые стены с жадностью впитывали в себя тепло, отдавая взамен холод.
Никитка-палач был потомственным мастером заплечных дел. Москва еще помнила его отца, высоченного и дохлого на вид старика, у которого кости выпирали во все стороны так, как будто он не подозревал о существовании пищи или постился, по крайней мере, года полтора. И было странно смотреть, как закопченный и высушенный, словно вобла, старик легко размахивал топором, как будто это была ложка, а не пудовое орудие.
Старый мастер рубил головы несколько десятилетий кряду, и если бы их выставить через версту все, то наверняка они сумели бы опоясать едва ли не всю Россию.
Но к старости старик начинал слепнуть и вызывал смех у собравшегося народа, когда удар приходился мимо склоненной головы, отщепив от колоды огромную занозу. А иногда до рубал узника несколькими ударами, как это делает неопытный мясник, прежде чем повалит животного.
Вот тогда старый мастер и обратился к государю, чтобы отпустил его с миром на покой, дал бы за службу небольшое поместье, где можно было бы коротать денечки и считать кур; а если нет… хватит и полтины в месяц, чтобы пить квасу и быть по воскресеньям пьяным.
Однако государь отпускную не давал до тех пор, пока мастер не подыщет замену.
А это оказалось самым трудным — не шел народ в заплечных дел мастера! Не могли его прельстить ни большой оклад, ни обещание пожаловать поместьем близ Москвы. Не было охотников! И старый мастер сослепу продолжал обрубать носы и уши приговоренным, проливая тем самым их страдания.
Каждый день глашатай с Лобного места объявлял о том, что государь призывает на службу заплечного мастера, но толпа оставалась равнодушной к воззванию царя.
Вот тогда старый мастер и обратился к сыну;
— Пойми меня, Никитушка, на отдых мне нужно, стар я совсем. Того гляди, сослепу тяпну себя по ноге, и не поместья тогда мне не надо будет, не полтины к празднику! А ты не робей! В государстве всякая работа полезна. А ко всему еще и почет великий! Всякий тебя в Москве знать будет, шапку перед тобой ломать станут, как перед думным чином. А сам ты, кроме как государя, и знать никого не должен. Бывало, ходит боярин, задрав голову, а потом на плахе ее оставит. Вот такова жизнь!
Полгода Никитка при отце был в подсобниках: подкладывал хворост в огонь, помогал скручивать изменникам руки, а потом дорос до того, что стал рубить головы самостоятельно.
Никитка, в отличие от отца, был неимоверно толст и величав, а когда взбирался на помост, то доски трещали так, как будто проклинали судьбу. На помосте, рядом с дубовой колодой, он выглядел как артист, исполняющий основную партию. Он возбуждался от пристального внимания толпы: ликовал и смеялся, горевал и плакал. Своим талантом палача он делал второстепенными стоящих на помосте обреченных, затмевал даже царя, восседающего на троне. Многие московиты приходили на казнь для того, чтобы специально посмотреть на Никитку-палача и услышать его жестокую остроту, которая будет потом гулять по Москве, подобно бродяге, будет заходить в каждый дом, в кабаки и осядет в горницах и светлицах целомудренных боярынь.