Ливонская война
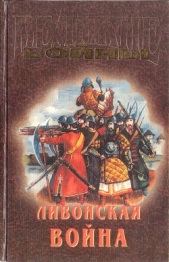
Ливонская война читать книгу онлайн
Новая книга серии «Великие войны» посвящена одной из самых драматических войн в истории России — Ливонской войне, продолжавшейся около 25 лет в период царствования Ивана Грозного. Основу книги составляет роман «Лета 7071» В. Полуйко, в котором с большой достоверностью отображены важные события середины XVI века — борьба России за выход к Балтийскому морю, упрочение централизованной государственной власти и превращение Великого московского княжества в сильную европейскую державу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Черни премного скопилось — вот худо, владыка, — сказал Мстиславский.
— Онатось съемлются… [169] Вящая радость государю зреть, како люд простой к нему ликование вознесёт. Радоваться надобно, что по своей воле пришли… и не дай господи воцариться на земле нашей государю, на усретенье которого народ нудьмо гнать доведётся.
— Быть и таковому, владыка, — равнодушно сказал Мстиславский. — В любви к Богу не все едины, а к государям — и того паче…
Макарий с укоризной посмотрел на Мстиславского — тот нетерпеливо скосился в сторону, на своего коня… Макарий, собиравшийся также и сказать ему что-то укоризненное, только слабо шевельнул рукой.
— Бог с тобой, боярин, ступай…
Мстиславский забрался в седло, сдерживая коня, поехал дальше… По другую сторону площади, почти мешаясь с толпой, подступавшей всё ближе и ближе к церкви, стояли дьяки, подьячие и прочий приказный люд, которому велено было присутствовать на встрече.
Дьяки, как и бояре и окольничие, все верхом, на добрых чистокровных лошадях… Тесным отдельным рядком — дворовые дьяки. Все на игреневых жеребцах. Осторонь от них, ближе к церкви, своим рядком — большие дьяки. Большие честью выше дворовых, но дворовые, эти всевластные распорядители царского двора, не хотят считаться с разрядом и держат себя с большими дьяками независимо и надменно. Вот и сейчас — наперёд выперлись, щеголяя малиновыми епанчами [170] и делая вид, что, кроме них, царя и встретить-то некому. Но большим дьякам плевать на показную напыщенность надменных царедворцев! Они им платят той же монетой — и по праву, ибо в разряде они местом во всём выше дворовых и перед царём им стоять — впереди! Когда царь, ступив на площадь, поклонится на три стороны — народу, духовенству и боярам со служилыми, он поклонится им, большим дьякам, и даже подьячим, и даже писцам, но не им, дворовым, потому что они слуги его дворовые, а дворне своей царь не кланяется. И они знают про это и с подъездом царя покорно займут своё место за спинами больших дьяков, но сейчас как не похорохориться, как не поважничать, как не потрясти спесью, когда вся Москва собралась! И что ей, пялящейся во все глаза на всё, что манит, дивит, завораживает, что скомит душу завистью и охмеляет голову восторженным удивлением, что ей до разрядов и местничества, и всяких тонкостей, и обычаев, и правил, в которых, как в паутине, завязли все эти разряженные, самодовольные и властные люди?! Тысячеокая, зявящаяся, восторженная толпа видит и признает только то, что видит: кто разряжен — тот богат, кто напереди — тот первый! Какое ей дело, кто выше властью, а кто ниже, какое ей дело до того, кто ближе будет стоять к царю, а кто дальше?.. Она поражена блеском объяревых и оксамитовых [171] епанчей, роскошью чеканной сбруи, тиснением седел, шитьём конских чепраков и покровцев, выхоленностью и породистостью лошадей, роскошью боярских одежд, богатством икон, крестов, хоругвей! Такое не часто увидишь! Глаза разбегаются, дух захватывает! Где уж тут думать о том, что обладатели всего этого не пашут, не жнут, не ткут, не куют железа, не выделывают кож, не расшивают чепраков, не делают седел, не ходят за лошадьми!.. Или о том, что зима была голодной, а весна будет ещё голодней и нужда, как вошь, заест вконец!.. Или о том, что нет правды, нет меры в поборах, нет пощады от сильных!.. Не о том, не о том мысли беспросветного сермяжья, шало глазеющего на это роскошество, на это великолепие представшего перед ним того, иного мира, непостижимость и могущество которого сплетают в его сознании такой громадный клубок благоговейного восторга, что в нём уже не остаётся места для святотатственных мыслей.
«Расея!!!» — торжествующая, самодовольная гордость взламывает даже крепкие души и кружит, кружит взбудораженные головы: «Какова ты, Расея! Какова!»
Вот она, сила помпезности, её кощунственного обольщения и восторгающего дурмана! Вот она, фальшивая, прочеканенная с одной стороны монета, за которую покупается у черни и её покорность, и терпение, и самоотверженность, и воодушевление!
Россия! Московия! Третий Рим! Третий Рим — так провозгласила она свою государственность, и не только покорённые Казань, Астрахань, Ливония, Полоцк должны свидетельствовать об этом — оксамитовая епанча дьяка, пышное убранство боярина, золочёный доспех воеводы тоже призваны подтверждать это!
Солнце пылает в небе, как зев громадного горна, плавится над Кремлем золото куполов, разбрызгиваясь длинными, ломкими иглами, и блестящее эхо стремительных отсветов отдаётся в зеленоватой глуби очищающегося от туч неба. В воздухе — студенистая желтизна, колодезная, пахнущая плесенью сырость и не прекращающийся ни на мгновение наваждающий голк весны.
Кремль, высвеченный ярым весенним светом, возвышается над Москвой, над её понурой, тихой убогостью, как могучая голова над тщедушным телом. Могучий, суровый, отчуждённый, он величествен и грозен — олицетворение власти, вознесённой над Россией, олицетворение силы, владычествующей над ней, силы беспощадной, гнетущей, но и восторгающей!
— Едет! Едет! — понеслось откуда-то издалека — громкое и отчаянное, как причитание. Мгновение тишины пронзило висевший над площадью шум.
Мстиславский придержал коня, выжидающе посмотрел на виднеющийся вдали высокий шатёр арбатской вежи [172]. Оттуда должны были подать знак, когда царь станет подъезжать к Арбату. Знака не было, радость изождавшейся черни была преждевременна, а Мстиславский опять попустил поводья…
Дворцовые дьяки осадили перед ним своих игреневых немного назад, чинно, дружно раскланялись… Раскланялся Мстиславский и с большими дьяками, но так же холодно, как и с дворцовыми. Надменный, обременительный кивок головы — вот всё, чем удостоил он больших дьяков — худородных служилых, которых царь всё больше и больше противопоставлял боярам. В них он нашёл как раз то, что ему было нужно: верность, усердие, беспрекословность, к тому же немалый, а порой просто недюжинный ум, который они, в отличие от бояр, щедро, хоть и не бескорыстно, отдавали государственной службе. За это он и жаловал их, и честь им воздавал — не по роду, а по уму, по службе, по делам! Вот он — Висковатый!.. Кто ещё сильней его в посольских делах?! Свору собак съел на этом деле! Вся посольская служба на нём, и ведёт он посольские дела с таким умением, так тонко и искусно, что все зарубежные послы дивятся тонкости и изобретательности его ума. Самые именитые бояре менее известны за рубежом, чем он — Висковатый, дьяк Михайлов, как зовут его в просторечии на Москве. Где бы ни правил он посольство и чьих бы послов ни принимал на Москве, никогда и ни в чём не допустит оплошности или промашки, и если не приведёт дело к благополучному исходу, то и разрушиться ему окончательно не даст: непременно измыслит что-нибудь такое, из чего хоть малая польза да выйдет.
К самым тайным делам приобщён дьяк… Дума того не знает, что знает он, и в думе не без основания говорят, что и самому царю не всё ведомо из того, что ведомо дьяку Михайлову.
Редок такой день, когда из Посольского приказа и в приказ гонцы не увозят за рубеж или не привозят из-за рубежа киличейских [173] грамот, а что в тех грамотах — знает один Бог да дьяк Михайлов, которому царь дозволяет слать грамоты от его, царского, имени, и в знак особого доверия пожаловал ему, ко всему прочему, ещё и звание большого печатника, отдав в его руки свою большую царскую печать. Став хранителем большой царской печати, Висковатый получил возможность вести такие дела, о которых ни один боярин в думе не мог даже и мечтать.
Проезжая мимо Висковатого, Мстиславский вдруг вспомнил об Алексее Адашеве, который был ещё влиятельней, чем Висковатый, ещё ближе стоял к царю и был более любим им… Не стеснялся Адашев и с боярами становиться в один ряд! Становился! Смелости и честолюбия ему было не занимать — и становился, во всём испытывая судьбу свою до самого конца.

























