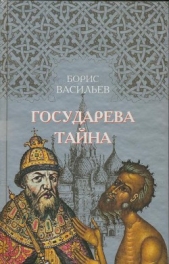Государева почта. Заутреня в Рапалло
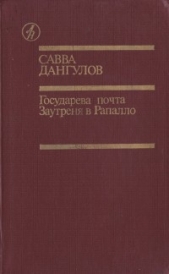
Государева почта. Заутреня в Рапалло читать книгу онлайн
В двух романах «Государева почта» и «Заутреня в Рапалло», составивших эту книгу, известный прозаик Савва Дангулов верен сквозной, ведущей теме своего творчества.
Он пишет о становлении советской дипломатии, о первых шагах, трудностях на ее пути и о значительных успехах на международной арене, о представителях ленинской миролюбивой политики Чичерине, Воровском, Красине, Литвинове.
С этими прекрасными интеллигентными людьми, истинными большевиками встретится читатель на страницах книги. И познакомится с героями, созданными авторским воображением, молодыми дипломатами Страны Советов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прошло часа два с начала переговоров, и к подъезду вновь подкатили немецкие лимузины, приняв в свое сумеречное лоно Ратенау с Мальцаном. Казалось, отъезд их из палаццо д'Империале не предусматривался, и это могло навести на раздумья печальные. Первая мысль: да не произошло ли непредвиденное? не дал ли большой разговор за прямоугольным столом неожиданной осечки? Но за мыслью первой последовала вторая — она успокаивала: тяжелые лимузины увезли не всех немцев — значит, работа продолжается. В этом можно было убедиться, поднявшись наверх: прием французских парламентариев, назначенный накануне на час, был отменен, как была отменена у Чичерина работа со стенографистом, которая обычно начиналась во втором часу. Все указывало на то, что у работы, которой были заняты русские и немцы, есть дистанция времени достаточно ограниченная.
Когда к подъезду гостиницы вновь подкатили «мерседесы» и на большой лестнице, ведущей в салон, появились Ратенау с Мальцаном и их коллеги, не было сомнений: предстоит подписание договора. Но об этом можно было всего лишь догадываться, смутно, но догадываться; всесильная тень тайны все еще укрывала русский особняк в Санта — Маргерите. Но таково, видимо, свойство тайны: она имеет возраст. Едва на хрусткую бумагу, украшенную водяными знаками, легли два имени, русское и немецкое, обратившие бумагу в документ, тайна перестала быть тайной.
«Самое драматичное событие конференции: русские заключили сепаратный договор с немцами!» — возвестили вечерние газеты.
Утром я застал Георгия Васильевича за письменным столом: видно, текст, который он дописывал, потребовал времени — фирменная бутылка от минеральной воды, сейчас пустая, указала мне, что работа продолжалась не один час.
— Вы спали нынче, Георгий Васильевич? — спросил я.
— Еще посплю, — сказал он и дал понять, чтобы я не уходил.
Он запечатал письмо и надписал адрес — я не успел отвести глаза и, кажется, воспринял имя адресата.
— Мысль становится четче, когда ты доверишь ее бумаге, — произнес Чичерин, заметив мое смущение. — Всегда полезно подвести итоги, даже самые предварительные…
— Рапалло? — был мой вопрос: о чем писать сегодня, как не о договоре с немцами?
— Рапалло, — подтвердил он и, приоткрыв дверь на веранду, пригласил меня последовать за ним: начиная ответственный разговор, он старался вывести его за пределы дома — он не очень–то доверял чужим стенам, для него они имели уши.
Солнце уже было высоко и дороги успели побелеть, но парк еще хранил сумеречность и свежесть раннего утра.
— Все письма, которые пришли этой зимой из Горок, — произнес он, дав понять, что не намерен скрывать имя адресата, к которому обратил письмо, написанное ночью, — были отмечены одной мыслью: нужен договор истинно равноправный, на который мы могли бы сослаться в наших отношениях с Западом…
— Рапалло — такой договор, Георгий Васильевич?
— Мне так кажется, по крайней мере эту мысль я пытался развить в письме Владимиру Ильичу, — подтвердил он, кстати не скрыв и имени адресата письма.
— Равноправие двух систем собственности — ленинская формула, не так ли, Георгий Васильевич?
— Да, разумеется, — в Рапалльском договоре эта формула преломилась и полно и убедительно, — согласился он.
— Вы полагаете, что Рапалло — шаг первый?
— Расчет Ленина был таким, хотя у событий может быть и своя чреда и свои сроки…
— Главное, первый шаг, Георгий Васильевич?
— Так полагал Владимир Ильич: самый первый.
— Он сделан?
— Несомненно: в Генуе.
Мы расстались: не ясно ли было, что Чичерин осторожно коснулся содержания письма, написанного этой ночью Ленину?
Поздно вечером я выглянул в сад и на неблизкой аллее увидел Красина. Покров облаков застил небо, но не в силах был упрятать полукружье луны, ее диск хотя и был усеченным, но давал достаточно света, чтобы высветлить аллею и фигуру Красина, остановившегося в раздумье.
О чем он мог думать сейчас? То, что совершилось сегодня, было доблестью всей могучей кучки дипломатов, собравшихся в Санта — Маргерите. Но у Красина тут была своя немалая ноша, которую он пронес через годы, видя цель. Наверно, эта цель могла и не соответствовать в полной мере всему, что произошло сегодня, но, приняв дух и формы Рапалло, внушила уверенность. Это всегда дорого, но тем более дорого, когда жизнь не так бесконечна. Знал ли это Красин в этот апрельский вечер двадцать второго года, знал, мог прозреть, мог предвидеть?
К тому, что скажет время, трудно что–либо прибавить: оно точно открывает тебе глаза. Познать истину значит провидеть? Но как проникнуть за горы лет, нет, не десятилетий, а хотя бы лет?.. А может, неведение иногда лучше провидения и время не столько скрывает доброе, сколько защищает от недобра?.. Провидишь — и упадешь замертво… Все началось с головокружения — поплыла земля. Нет, в ветре, что возник и легко качнул тебя, не было могучести — тихий ветер… Он сказал себе: «Это, кажется, было и прежде, обычная слабость…» — и, нащупав стул, сел, закрыв глаза. Розовые круги, бледно–розовые, взмывали и падали, их ткань была ветхой, она расползалась на глазах… Он открыл глаза, и новый порыв ветра, все такого же тихого, повалил его — он едва не опрокинулся навзничь. Потом долго сидел присмиревший, отсчитывая секунды… Больничная койка. Разговор с врачом, требовательно–доверительный… «Кровь, кровяные шарики…» Он и прежде умел вышибать у врачей запретное, самое запретное. Цифра была названа. Остальное было вопросом умения оперировать цифрами, не думал, что его инженерный дар сослужит ему такую службу. «Число кровяных шариков уменьшалось в энной пропорции…» И в какой связи это находится с количеством дней, отпущенных человеку? Карандаш обломился, и не было сил его очинить, впрочем остальное уже можно было сосчитать и в уме. Цифра, которую он получил, ошеломляла: ему осталось жить девяносто два дня, даже не сто, а девяносто два. Он выбрался из госпитального заточения. Девяносто два дня — это много или мало? Наверно, у всех смертельно раненных мысль идет одной дорогой: разобрать бумаги, разобрать, разобрать… Он уединился, наказав, что никого не хочет видеть; день и ночь шелестит бумага, сухая, пыльная. Он заточил себя в «одиночку», в цитадель одиночества, у которой стены едва ли не аршинной толщины. Но оказалось, что и эти стены могут пасть: вдруг явился человек, да, человек из тех, которых посылает сама судьба, недаром та же судьба облекла его именем врача… И вновь операционный стол, ампулы молодой крови, заветное обновление… Хорошо бы сейчас в Италию, к теплому морю, в сухую тень прибрежных рощ… В Сан — Ремо, Кава–де–Лавания, Санта — Маргериту… Тут сами названия благословенных этих мест, само звучание этих имен — Сан — Ремо–о–о!.. Кава–де–Лава–ния–я–я!.. Санта — Маргерита–а–а!.. — способно вдохнуть новые силы, исцелить. Он устремляется к теплому морю, лазурному морю… А может, дело не в море, а в человеке, в его способности сшибить недуг? Ведь это же не легенда: атаковать недуг иным недугом, еще более жестоким, и сшибить его. Врачи говорят: «Возник новый вирус, и он сглотнул старый…» Сглотнул?.. Но, быть может, человеческая воля, всесильная воля, не слабее этого нового вируса? Быть может, в силах человека спалить злое жало, поселившееся в тебе? Ну, если и недоберешь собственных сил, в твоей власти призвать силы солнца и воды? Ну, кликнуть клич и воззвать к их доброй воле?.. Эй ты, великая благодать юга, помоги человеку! И вы, горы! И вы, рощи, — не зря же у вас слава райских! И ты, царь–море!.. Помоги, помоги!.. Но это был не столько гром сотрясающий, сколько тишина первозданная, она располагала к самоуглублению. «Видно, каждый Моисей должен умереть у входа в землю обетованную. Слепая, злая, проклятая судьба…» Он вернулся в Лондон к повседневным делам, к труду — страдная красинская вахта. «Когда болеешь, когда чувствуешь на своем лице дуновение последнего часа…» Он так и написал: дуновение последнего часа. В канун октябрьской даты в посольстве был прием — собрался весь Лондон. Да, сотни гостей стеклись в русский дом, как называли посольство, но среди них не было ни одного, кто бы не знал, что за стенами приемных залов умирает посол, умирает с тем храбрым терпением, с каким прожил жизнь… На пределе одиннадцати, когда остались только свои, впервые открылись нижние двери и все, кто был в доме, медленно сошли в сад. Посол услышал голоса внизу, тронул створку окна. «Подойдите сюда, все подойдите, — попросил он. — А не спеть ли нам ту тревожную, что пели в начале века?..» Тревожную? Песня, точно большая лодка, идущая наперекор волне, набирала силу медленно: «Вихри враждебные веют над нами, черные тучи…» Чужое небо принимало русскую песню — в ней, в этой песне, было прозрение России, способное исторгнуть слезы счастья и укротить боль… В Лондоне умирал русский посол.