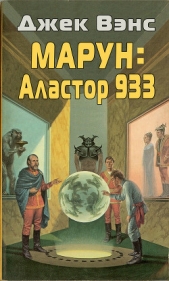И лун медлительных поток...

И лун медлительных поток... читать книгу онлайн
«Неохватные кедры просторно раскинули тяжелые кроны, словно держат на себе задремавшую тяжесть времени…» В безбрежность тайги, в прошлое северного края погружаемся мы с первых страниц этой книги. Здесь все кажется первозданным — и природа, и борьба за существование, и любовь. «И на всю жизнь, на всю долгую жизнь в Мирона вошло и осталось пронзительное, неугасимое удивление перед женщиной, что горячим телом, обжигающим ртом защитила его, оборонила от смерти. Она обнимала его нежно и плотно, обнимала волной от головы до пят, она словно переливала себя в Мирона, переливала торжественно и истово…» Роман-сказание — так определили жанр книги ее авторы тюменский писатель Геннадий Сазонов и мансийская сказительница Анна Конькова. Прослеживая судьбы четырех поколений обитателей таежной мансийской деревушки, авторы показывают, как тесно связаны особенности мировосприятия и психологии героев с поэтичным миром народных преданий и поверий, где «причудливо, нерасторжимо сплетались вымысел и чудо, правда и волшебство». В центре произведения — история охотничьего рода Картиных с начала XIX века до последнего его десятилетия. Авторы хотели продолжить повествование, задумана была вторая книга романа, но кончина писателя Геннадия Сазонова (1934–1988) оборвала начатую работу. Однако переиздается роман (первое издание: Свердловск, 1982) в дополненном виде — появилась новая глава, уточнен ряд эпизодов. На переплете — фрагмент одной из картин художника Г. С. Райшева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я хранитель капища, — сурово сказал старый Картин. — И забудь про охоту! Разве ты можешь прикоснуться к медвежьей шкуре? Разве ты можешь прикоснуться к священному соболю и снять с него шкуру?
— Все законы придумали мужчины! — ответила Апрасинья. — И драные жизнью слепые старики.
— Да! — гордо поднял голову Картин. — Их придумали мужчины. Их придумали старики, что узрели жизнь изнутри, чтобы уберечь свой род!
— Они придумали законы от своей глупости и лени, — огрызнулась Апрасинья. — Медведица одна выкармливает своих детенышей. Медведь все лето гуляет один, да еще отнимает добычу у медведицы. И копалуха, и тетерка одни пестуют своих птенцов, а глухари прячутся в глухие урманы. Селезень, утка в разное время меняют перо. Женщина продолжает род! — отрезала Апрасинья. — Привези мне с ярмарки ружье, тетюм!
Женщина права, размышляет старый Картин, но она мало думает, она говорит то, что подсказывает ей сердце, а не разум. Но, слушая сердце, можно разрушить все: устоявшийся уклад, порядок старшинства и разумности. Большинство подчиняется законам, а если большинство — значит, нет изъяна, значит, все верно. Ведь не может же большинство быть глухим и глупым? Не может ошибаться весь род, не может ошибиться все стойбище, не может быть неправым весь народ на Конде. Но эта женщина не желает принимать все на веру, как положено, а пытается проникнуть в сердцевину. А может ли оказаться правым один-единственный человек? Нет, этого не может быть!
— Мирон! — твердо сказала Апрасинья. — Ты привезешь мне ружье! И нож! — И лицо ее замерцало звездным небом, и голубыми омутами высветлились глаза.
— Хорошо! — улыбаясь, ответил Мирон. — Я достану для тебя самое лучшее ружье, милая моя женщина! А ты подари мне сына-охотника!
— Он появится на свет с новой травой и цветами, — в улыбке заструилось лицо Апрасиньи. — Кем, как не сыном, я одарю тебя за любовь твою?!
Не заискивает ни перед кем Апрасинья, не заигрывает, но и не таится — говорит то, что думает, а думает она неожиданно и вызывает невольное уважение. И в то же время она раздражает старого Картина непреклонной, оголенной своей правдой. А может быть, это правда женщины, которую никогда не познать мужчине, та сокровенная тайна, в которую она никогда и никого не пускает?
Получила Апрасинья ружье, и лес снова распахнулся перед ней весенней охотой. Ни на день она не желала расстаться с мужем своим, Мироном.
— Усмири свою женщину, Мирон. Не то худо будет, — пригрозили евринцы. — А если наши бабы заразятся от нее?
Но Мирон только смеялся.
Род Картиных немногочисленный, но крепкий и дружный. Он, конечно, уступает роду Чейтметовых и роду Кентиных, даже Лозьвиных, с которыми Картины находятся в близком родстве, хотя и вовсе на них не похожи. Лозьвины ростом высокие, но гибкие, сухие и жилистые — сколько ни гни, все равно не сломаешь. И лицом Лозьвины тонкие и скуластые, и прослыли они среди евринцев родом молчунов: все в себе носили, горе и радость не расплескивали, но до поры до времени. Не стоило их дразнить: шутить и смеяться они над собой не позволяли. Тяжеловаты на доброту Лозьвины, но и сами пощады не просили.
Картины, коренастые, приземистые, широкие в плечах и груди, круглолицые, отличались от родичей и крупными, тяжелыми носами с заметной родовой горбинкой. Так их и звали: «Э, Сорнин Кётып, пыскась род», что значит — «род Золоторуких, шипящих носом». Но не шипели Картины, а выкладывали прямо в глаза, горячо и дерзко, что думали, не таили в себе, и оттого из их рода выбирали хранителей капища. Нет, то были не шаманы, что вызывали и побеждали злых духов, ублажали добрых, в исступлении своем напускали порчу и изгоняли хворь. Хранители капища определяли время всеобщего моления и приношения жертвы земному богу Шайтану, выбирали место для моления, охраняли жертвенное место — святыню, толковали обычаи и древние запреты. Они охраняли, как могли, языческую, родниковую чистоту своей веры, а ее, как кедр, прожигали с комля пока еще тоненькие и неокрепшие языки пламени новой веры в Христа, принесенной русскими, но она, обкусывая и съедая высохшие ветки и неокрепшие побеги, не смогла добраться и прокусить сердцевину.
В роду Картиных хранится предание о том, как прадед Максима, дед его деда, малозубым мальчишкой был окрещен самолично неистовым Филофеем, десятым митрополитом Тобольским. О том же в Пелыме рассказывал Максиму седогривый горластый поп, и хотя не все Максим понял, но отдал три соболя за крохотный медный крестик.
— Ты — евринский вогул, Картин? — прогудел из густой расчесанной бороды пелымский священник в сверкающей парчовой ризе, в такой золотой малице, которую носит, наверное, Великий Торум. — Ты меня знаешь, туземец?
— Да, — ответил Максим. — Тебя я знаю.
— Кто я? — потребовал отец Павел.
— Ты главный русский шаман-батюшка, — захитрил Максим. — Самый, самый батюшка, поп-отец.
— Да! — обрадовался отец Павел и оглушительно, как леший, захохотал. — Но ты, Максим Картин, крещеный, приобщенный к вере вогул, есть самый поганый язычник, есть главный шайтанщик, оберегатель идолов. Так?
— Есть маленько, — ответил Максим. — Маленько Кристос, маленько свой бог. У манси пять душ — всем хватит.
— Но прадеда твоего окрестил верный слуга Христа, истовый сын церкви незабвенный Филофей! Как могло так обернуться? — уже громом гремел отец Павел. — Как такое могло случиться, что внуки и дети самолично окрещенных Филофеем вновь утонут в скверне, в срамоте и дикости язычества? Боже великий и милосердный, вразуми!
Отец Павел, тыча пальцем в древние книги, непонятные записи и бумаги, поведал Максиму о митрополите Филофее.
…Крепко, намертво засела в Филофее мысль прославить свое имя, окрестить всех сибирских инородцев, обратить остяков, вогулов, и татар, и мордву из язычества в веру православную. Пятьдесят два года Филофею, и не столько он крепок телом и здоровьем, как могуч негасимой верой. Добела раскален ею Филофей, просит он царя Петра позволить ему сурово наказывать иноверцев, что продолжают жить в темноте и скверности язычества, наказывать до смерти, до сожжения и обезглавливания. Не позволил того царь, попридержал чересчур ретивого церковника. «Ежели они все язычники, то головы им всем посечешь, а без головы даже иноверец жить не может и дорогого зверя добывать. Ты, Филофей, свирепость маленько укроти» — так, наверное, охлаждал его царь.
«Ладно, — решил Филофей. — Пущай так на бумаге и останется. До бога высоко, а до царя далеко. Сам же потом спасибо скажет».
И вот что стало: девять митрополитов Тобольских, что были до Лещинского, не смогли окрестить столько, сколько один Филофей. Он не давал покоя и отдыха ни себе, ни людям своим, проникал в самые глухие места огромного края и крестил на месте всех, кто попадался. Выслеживал, ловил, хватал и крестил как одержимый.
— «…Все кумиры бездушные сокрушиша, скверные капища и кумирницы разориша и сожгоша. Прострежеся падеж и разорение сих даже до Березова», — прочитал нараспев отец Павел. — Понял, вогул?
— Маленько, — ответил Максим.
…Летом 1712 года, как только прошел ледоход на Иртыше и открылась Обь, Филофей на просмоленном судне, распустив хоругви, спустился к березовским остякам. Два года спустя, в волчью темь февральских метелей, звериными тропами он приходит на Пелым и на Конду и крестит манси — вогулов. Летом Филофей вновь в Березово, а в 1715 году раскаленный, неистовый митрополит опять пробирается на Конду, в самый центр язычества.
— Вот он где, языческий Вавилон, вот где древние мольбища, вот где скверные хранилища истуканов, идолищ поганых! — кипел гневом Филофей. — Вот оно, гнездовье шайтанов! Здесь ихний главный жрец, исчадие преисподней.
В селении Нахрачи, что поднималось на слиянии Конды и Юконды, Филофей посек и утопил идолов. Здесь были идолы, что почитались главными не только у вогулов, но и у остяков. Один «изсечен бе из древа, одеян одеждою зеленою, злообразное лицо белым железом обложено, на главе его черная лисица положена», у другого идола «с жести изваяна личина, мало что бяше подобие человека». А третий из дерева изваян «наподобие человече, сребрен, имеющ лице: сей действием сатаниным проглагола бездушный…».