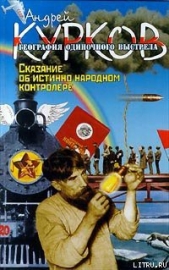Сказание о Маман-бие

Сказание о Маман-бие читать книгу онлайн
Перевод с каракалпакского А.Пантиелева и З.Кедриной
Действие романа Т.Каипбергенова "Дастан о каракалпаках" разворачивается в середине второй половины XVIII века, когда каракалпаки, разделенные между собой на враждующие роды и племена, подверглись опустошительным набегам войск джуигарского, казахского и хивинского ханов. Свое спасение каракалпаки видели в добровольном присоединении к России. Осуществить эту народную мечту взялся Маман-бий, горячо любящий свою многострадальную родину.
В том вошла книга первая.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Правильно, сын мой, вот это правильно, — тут же отозвался Гаип-хан. — Нечего вострить уши на всякие сплетни обо мне. Наслушаетесь — будете совращены…
Черные шапки зашевелились и дружно загудели. Уа, молодец — сын батыра, уа, молодец!
Рыскул-бий сунулся было к уху хана с шепотом, с наветом, но тот отвернулся. Хан неотрывно смотрел на сына батыра. Оразан-батыр был колюч, как еж, а сын его мягок, как лисий мех. Сказалась, значит, рука Мурат-шейха. Это нам по душе, это нам годится.
— Ну, и третий мой вопрос: какая дана узда человеку?
Все молчали. Никто не двинулся с места. Маман повернулся к Есенгельды, ожидая. Но тот смотрел в сторону. А черные шапки смотрели во все глаза на Мамана. И все бии смотрели на Мамана. Маман встал. Гаип-хан кивнул. Маман поклонился.
— Хан мой, узда человека — его язык. Язык может погнать, повернуть, вздернуть на дыбы. Но, кажется, обуздать себя всего трудней. Я обуздываю, хан мой… и умолкаю.
И опять засмеялись черные шапки, глядя на сына батыра с восхищеньем. Простым людям в диковинку было слышать такие речи, тем более от джигита, еще не женатого, не отрастившего бороды. Но и бии не были избалованы ни мудростью, ни остроумием ни себе равных, ни своих детей. Доблесть зрелого мужа завидна, доблесть юного — вдвойне.
Гаип-хан махнул рукой, громко пыхтя, в знак того, что доволен и утомлен праздными занятиями, участием в которых он всех осчастливил.
— Шейх мой, дело за вами.
И по лугу прокатился общий вздох: хан доволен, Мурат-шейх словно бы не видел и не слышал Мамана. Когда встал Маман, лицо шейха было безучастно, но старое сердце томилось и болело. Сейчас больше, чем когда-либо, боялся шейх самовольства Мамана. Но не хотелось бы и того, чтобы Маман равнялся на других. Он был слишком смел, слишком упрям, но сегодня не это ли в нем покоряло?
— Я задам один вопрос, — сказал Мурат-шейх, — в чем корень ума человека?
Сказал и непроизвольно поднял ладонь, прикрыл ею глаза, чтобы не видеть, что делает Маман.
Маман обернулся, привстал на одно колено, пристально всматриваясь в задние ряды. И сразу же множество людей обернулось и стало смотреть туда же, куда он смотрел. Старец Рыскул-бий скривился от ярости, замигал, не веря глазам своим.
Между тем человек, которого это касалось, живо понял взгляд Мамана. Встал Аманлык, вышел, поклонился, как будто все только этого и ждали. И уже не таращился так от страха, не заикался, как в первый раз, отвечая.
— Корень ума, должно быть, в терпенье, шейх-отец, — сказал Аманлык. И все же не удержался, спросил, будто ловя шейха на слове:- Угадал?
— Это зерно моей мысли, — ответил шейх негромко, торопливо, с опаской косясь на Гаип-хана.
Но тот словно не замечал ничего и только морщился, глядя на драные штаны нищего. Судя по всему, хан благодушествовал: пусть себе попрыгают, побрешут, щенки, а мы позабавимся, присматриваясь, какой они породы.
Рыскул-бий прикусил язык; больше он не смел тревожить левое ухо хана. Самовольство Мамана, такое видное всем, вопиющее, хан прощал. Кто знает, что сей сон значит?
А Мурат-шейх и вовсе отступился, попросил потрудиться за себя ученого мужа, главного грамотея аула Ешнияза-ахуна, представив его хану. Гаип-хан лишь пожал плечами.
— Мой вопрос: что в мире самая лучшая постель? — воскликнул Ешнияз-ахун напыщенно.
Так напыщенно, что Маман рассмеялся про себя. Вопрос детский… Для Есенгельды. И едва Маман это подумал, как Есенгельды вылетел, опять подобно игральной кости, и встал на виду, рисуясь.
— Самая лучшая постель — молитвенный коврик, хан мой!
Это походило на подсказку, но, помилуй бог, как горячо одобрил джигита Рыскул-бий, а за ним еще горячей — Мурат-шейх… Уж не покривил ли душой шейх-отец, подослав грамотея с загадкой очевидной, как цена на монете? Маман потемнел, но смолчал.
Подошла очередь Рыскул-бия. Он огладил белоснежную бороду.
— Спрашиваю: как узнать человека, у которого на душе горе?
Черные шапки застыли, не дыша… Многие ожидали, что уж теперь никак не усидит, покажет себя Есенгельды. Но он не поднял головы. И те, кто умел видеть, видели: струсил Есенгельды. И понимали, что его страшило: ввяжется Маман, поправит его ответ во второй раз еще обидней, чем в первый.
Бии переглядывались, ожидая. На лугу стали шептаться то здесь, то там. Но молодые джигиты сидели, повесив головы между колен.
Тогда Гаип-хан бросил беглый колючий взгляд на Мамана. Нетерпеливый взгляд. Маман встал.
— Хан мой, я мог бы сказать, что горе любит паши глаза и наш язык. Застелет глаза — человек плачет. Уколет в язык — человек жалобится. Но это каждый скажет. Вот мы молчали, услышав вопрос… Почему молчали? Потому что мы горе видим, закрыв глаза. Это для нас не задача. Головы ломаем, как разглядеть радость… Простите, нескладно сказал.
— Нескладно, говоришь? — переспросил Гаип-хан и коротко хохотнул, посматривая на оторопевшего Рыскул-бия.
Однако бодлив наш юнец и на лбу у старца огромнейшая шишка. Нет, пожалуй, что-то в нем есть и от шейха, и от батыра. Смесь недурна. Таких надобно запрягать пораньше, пораньше, пока не отбились от рук. Или сворачивать им шею, на худой конец, тоже пораньше.
Вступился Убайдулла-бий, чтобы замять неловкость, выручить старца, не дать задуматься простолюдинам.
— Хан мой, — проговорил он с церемонным поклоном, — мой вопрос похож на ваш: кого больше па земле — богатых или бедных?
Но дело повернулось не так, как хотелось бы почтенному главе рода. Лиха беда начало. Понравилось сиротам говорить с ханом. И еще один молодец внезапно выбежал из заднего ряда — балагур Аллаяр, чумазый и нахальный.
Бии все разом, все скопом зафыркали, тряся бородами. Иные плевались:
— Гнать его! Пусть сядет! Пусть сперва добудет себе на кусок хлеба!
По лугу прокатилась черная волна. И как ни странно, многие из простолюдья были против, но больше все-таки — за сироту.
Мурат-шейх, перехватив молящий взгляд Мамана, покачал головой, отказывая наотрез, но все-таки поклонился хану:
— Окажите великую милость… Удивите народ великодушием…
И хан удивил: кивнул, задрав бороду кверху так, что она заслонила нос.
— Эй, мальчик, — сказал шейх, с нескрываемой болью глядя на биев. — Благодари хана нашего, ибо его щедрость поистине ханская. Говори… Говори коротко.
Аллаяр немедля подбоченился, прогнув спину, и джигиты, следившие за огнем, невольно прыснули, узнавая в немытом оборванце барчука Есенгельды. А потом случился такой конфуз.
— Говорят, мы богаты, каракалпаки… — сказал Аллаяр, — до первого набега врага… Я так думаю: тот богат, кто доволен. Не мошной — душой! А кто недоволен — последний бедняк. Я, например, сыт каждый день. Тем и богат. Таких, как я, не сочтешь. Нас много, нас больше, богатых, самых богатых! — вскрикнул Аллаяр, и все увидели: смеялся парнишка, право, смеялся, ощерив зубы, а по щекам его текли слезы.
Тишина. Черные шапки ответили сироте долгим молчаньем.
Гаип-хан, насупясь, боком склонился к Мурат-шейху.
— Это как же понять, шейх мой? Сын батыра якшается с нищими? Тут целая банда… Это зачем?
— Детская блажь, хан мой, детская блажь. Безотцовщина…
Слово хапу понравилось: безотцовщина. Однако каковы голопузые! По виду — щенки, дети… А души отчаянные. Отпетые головы. Таким дай вожака — учинят разбой. Этих щенков лучше топить.
Гаип-хан поиграл в короткопалой руке нагайкой и словно бы рассеянно, но совершенно внятно сказал «самому богатому» мальчику:
— Пошел вон.
Аллаяр убежал. И не только бии, вовсе не только бии, а очень многие бедняки, сидевшие на лугу, сочли, что, конечно, оно понятно, иначе быть не могло, а нищему — поделом.
Тем временем хану стало приедаться это занятие. Султаны сидели как на иголках. Пора было возвращаться к истинному делу — к охотничьей своре, пора.
Бии мигом почувствовали перемену погоды на торе. И Давлетбай-бий, очередь которого подошла, человек с проседью в бороде, сказал, поспешая: