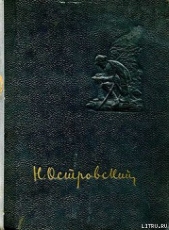Перед бурей
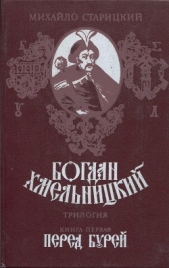
Перед бурей читать книгу онлайн
В романе М. Старицкого «Перед бурей», составляющем первую часть трилогии о Богдане Хмельницком, отражены события, которые предшествовали освободительной войне украинского народа за социальное и национальное освобождение (1648-1654). На широком фоне эпохи автор изображает быт тех времен, разгульную жизнь шляхты и бесправное, угнетенное положение крестьян и казачества, показывает военные приготовления запорожцев, их морской поход к берегам султанской Турции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К концу года поулеглось горе в юном сердце Оксаны — молодость взяла-таки свое: ее сердечную утрату смягчила несколько горячая привязанность к ней Катри, на которую она отозвалась всеми струнами своего сиротливого сердца. Каждый раз на лице Ганны появлялась теплая улыбка, когда вечером, проходя по светлице, она замечала молоденьких девочек, забившихся в угол. Они иногда о чем-то шептались с лукавыми личиками и загоравшимися глазками, обрывая при появлении Ганны речь, а иногда Катря нежно ласкала и утешала, розважала Оксану: в этих головках зарождались уже свои интересы, свои секреты, свои радости и печали... Звонкий смех Катри раздавался то здесь, то там и разгонял сумрачную тишину суботовского дома; на второй год стал к нему присоединяться хоть изредка и смех Оксаны.
Тимко быстро, рос и крепчал. Он обещал быть коренастым и крепким козаком. Лицо его, слегка тронутое оспой, нельзя было назвать красивым, но с годами оно начинало принимать все более и более некоторую своеобразную прелесть дикого и необузданного характера. Он напоминал молоденького необъезженного коня с густою гривой, гордо поставленною шеей, коротким, немного тупым носом и глазами, вечно полными строптивого огня. Ученье его с «профессором» дьяком подвигалось весьма туго, зато за уроками Золотаренки и Ганджи Тимко забывал целый мир. Вскочивши на невыезженного жеребца, он мчался на нем, сломя голову, по степи и возвращался домой такой же неукротимый и горячий, как и дикий, взмыленный конь. Андрийко учился вместе с ним тоже всем военным экзерцициям [81], один лишь больной и хиленький Юрась жался все около матери, выпрашивая у бабы гостинцы, или взбирался на колени к Ганне и просил ее рассказать ему гарную сказочку. Когда же светлая головка мальчика склонялась рассказчице на грудь и сказка тихо прерывалась, не дошедши до конца, перед глазами Ганны тихо всплывали какими-то смутными тягучими прядями отрывки старых воспоминаний, и казалось все это Ганне таким чуждым и далеким, и каждый раз она застывала на одном и том же вопросе: неужели все это пережила и перечувствовала она?..
К концу второго года, осенью, в филипповку уже, был переполошен суботовский двор. Поздним вечером раздался сильный стук в браму, и воротарь не мог добиться от ломившегося в ворота, кто он? Это возбудило подозрение в деде; он послал за Ганджой и сообщил ему, что какой-то татарин, — хотя и темно, а он этих чертей узнает и поночи, — торгает и бьет рукояткой сабли в ворота.
— Да он один или за ним стая? — спросил, зевая и не совсем еще отрешившись от сладкого сна, Ганджа.
— А кто их разберет... может, за ним и зграя.
— Э, полно, дали бы знать огнищами по всей Украйне, коли б прорвался сюда какой-либо загон голомозых... Отворяйте браму смело, а я вот наготовлю для привета кривулю.
Звякнули болты, заскрипели ворота; какая-то стройная фигура ворвалась в отверстие и бросилась опрометью на деда, заключая его в крепкие, порывистые объятия.
— Что за сатана? Кто ты? — отбивался от татарина дед, желая заглянуть ему прямо в глаза. Но татарин увернулся и, оставивши деда, бросился с объятиями к Гандже.
— Силяй айлеким якши! — пробормотал оторопелый Ганджа. — Только как тебя величать, приятель, из какой ты орды?
— Да Олексой величать! Иль не узнали? — ответил наконец звонким, радостным голосом татарчук.
— Олексой! Морозенком? — вскрикнули изумленные до суеверного ужаса дед и Ганджа и в свою очередь бросились обнимать оплаканного было мертвеца.
Весть о воскресшем и прибывшем Олексе молнией облетела всю челядь: козаки, парубки, молодицы и старухи выскочили к браме и подняли восторженный гвалт. Разросшийся во дворе шум, перемешанный с криками изумления, радостными приветствиями, взрывами смеха, всполошил, наконец, и хозяек дома. Первая проснулась пани, страдавшая и без того бессонницей, разбудила бабу и послала за Ганной. Выскочила Ганна на ганок, увидела, что у ворот копошился народ, и замерла, взволнованная радостным и тревожным предчувствием. «Не дядько ли? Не господарь ли наш?» — блеснуло в уме Ганны, и от одной этой мысли затрепетало так ее сердце, что она инстинктивно прижала руку к груди... Она, впрочем, не сразу могла узнать, кто приехал: Морозенко переходил из объятий в объятия и не мог протиснуться скоро к будынку.
Наконец Олекса вырвался из объятий и быстро взбежал на ганок. При свете вынесенных на крыльцо каганцев и свечей Ганна увидала какого-то молодого татарина, быстро бегущего к ней.
— Кто это, что такое? — вскрикнула она, невольно отступая.
— Я, я, Олекса, панно Ганно, — раздался знакомый голос, и Ганна не успела опомниться, как очутилась в крепких объятиях молодого хлопца.
— Ты, ты?.. Откуда, каким образом? — повторяла Ганна, всматриваясь в лицо Олексы.
— Все расскажу... Господь спас... А Оксана? — Но Олекса не докончил своего вопроса: двери в эту минуту распахнулись настежь и какая-то маленькая фигура, с босыми ногами и наскоро наброшенной юпчонке, с громким криком: «Олекса!» — бросилась к нему на шею.
— Оксана, Оксаночка, дивчынко моя! Ты босая, раздетая, — повторял Олекса, целуя ее и прижимая к себе вздрагивающее от рыданий тельце девочки; но Оксана ничего не слыхала, охвативши его шею руками; она повторяла сквозь слезы только одно слово:
— Любый... любый... любый... хороший мой... мой!
Все были тронуты этой радостной встречей сиротливых детей. Наконец Оксану удалось увести в комнату; за нею вошел Олекса и все остальные. До самого рассвета никто не ложился спать в суботовском доме. В печи развели огонь, принесли еду и питье; Оксана не отступала ни на одну минуту от Олексы; сжавши его руку в своей руке, она повторяла потихоньку с детской улыбкой:
— Ахметка, Ахметка; ты теперь настоящий Ахметка.
И Олекса ласково улыбался дивчынке, гладя ее по черной кудрявой головке. Действительно, в этом татарском наряде он был до того похож на татарчонка, что никто бы даже из своих не узнал в нем козака. Когда, наконец, измученный и полузамерзший Олекса подкрепился и отогрелся, все окружили его и стали слушать его рассказ о том, как он спасся из турецкой неволи.
— Дело было вот как, панове, — говорил Олекса, подсовываясь к огню. — Когда гетман послал меня на разведки, я устал крепко, причалил човен да и заснул. Да так ведь крепко заснул, что и не слыхал, как лодку отчалило от берега, как растерялись мои весла... словом, сам виноват, но вышло так, что вместо осетра, я со своим челном попал в татарские сети.
— Ну, да и разумный же ты, хлопче, ей-богу, — улыбнулся широкой улыбкой Ганджа, похлопывая Морозенка ладонью по спине, — и как это только они из тебя, раба божьего, не наварили доброй юшки?
— То-то и дело, что едва господь спас! — усмехнулся и сам Олекса. — Рассердились они на меня здорово, сперва за то, что я им сети порвал, а потом, как увидали на мне крест да узнали, что козаки прорвались ночью в Черное море, так и совсем мне круто пришлось. Порешили все, что я шпиг и что меня надо повесить либо посадить на кол, да и баста. Уж я и божился, и уверял их в том, что я природный татарин, что меня насильно крестили, что я от козаков из неволи к ним и бежал — никто мне не верил; даром что я и по-татарски с ними говорил — не верят, повесить, да и конец! Наконец- таки сглянулся надо мной господь, нашелся один старый татарин, признался в том, что знал моего отца; тогда порешили оставить меня в живых; но так как мне никто не верил, то меня заковали по рукам и ногам да так и гоняли с другими пленниками на работы. Целый год старался я добиться у надсмотрщика ласки, работал за трех, с пленниками не говорил, держался природным татарином, — ну и стали ко мне мои хозяева поласковее, на другой год позволили руки расковать. Так прошло еще с полгода, а на седьмой месяц темной ночью распилил я свои кандалы, взял у хозяев за свою верную службу пояс с дукатами, хлеб, кожух, доброго коня, да и был таков!