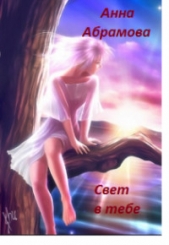Свет мой Том I (СИ)
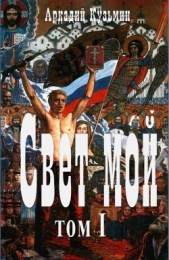
Свет мой Том I (СИ) читать книгу онлайн
Роман «Свет мой» (в 4-х книгах) — художественные воспоминания-размышления о реальных событиях XX века в России, в судьбах рядовых героев. Тот век велик на поступки соотечественников. Они узнали НЭП, коллективизацию, жили в военные 1941–1945 годы, во время перестройки и разрушения самого государства — глубокие вязкие колеи и шрамы… Но герои жили, любя, и в блокадном Ленинграде, бились с врагом, и в Сталинграде. И в оккупированном гитлеровцами Ржеве, отстоявшем от Москвы в 220 километрах… Именно ржевский мальчик прочтет немецкому офицеру ноябрьскую речь Сталина, напечатанную в газете «Правда» и сброшенную нашим самолетом 8 ноября 1941 г. как листовку… А по освобождению он попадет в военную часть и вместе с нею проделает путь через всю Польшу до Берлина, где он сделает два рисунка. А другой герой, разведчик Дунайской флотилии, высаживался с десантами под Керчью, под Одессой; он был ранен власовцем в Будапеште, затем попал в госпиталь в Белград. Ему ошибочно — как погибшему — было поставлено у Дуная надгробие. Третий молодец потерял руку под Нарвой. Четвертый — радист… Но, конечно же, на первое место ставлю в книге подвиг героинь — наших матерей, сестер. В послевоенное время мои герои, в которых — ни в одном — нет никакого вымысла и ложного пафоса, учились и работали, любили и сдружались. Кто-то стал художником. Да, впрочем, не столько военная тема в этом романе заботит автора. Одни события мимолетны, а другие — неясно, когда они начались и когда же закончатся; их не отринешь вдруг, они все еще идут и сейчас. Как и страшная междоусобица на Украине. Печально.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Их семейство заняло теперь пустовавшую школу. Так эта Любка показно любовничала с очередным длинноногим фарсоватым гитлеровцем, который натянул на себя чисто кавалерийские шкары-галифе, частично обшитые желтой кожей. Он, стоя на ступеньках крыльца, тискал ее, Любку, у себя на коленях, и она хохотала, довольная; так они долдонили о любви: он — по-немецки, она — по-русски. И ничего плохого, по ее понятию, в том не было. Она-то ничего не теряла. Ей не было неприятно, не было отвратительно. напротив. Она даже приговаривала:
— «Ты все-таки балбес у меня ты — серый…»
Да, ей не было неприятно, совсем наоборот: так, и местные бабы проходили мимо, ее смех слышали и все воочую видели это и, разумеется, завидовали ей, хотя и сплевывали тут же с неприязнью к увиденному. И немецкие солдаты, товарищи ухажера, прошагивали мимо, кричали ее любовнику что-то нечистое, вроде того, что дай, друг, и нам подержаться, совесть имей, а он словестно отбивался от их наскоков.
Вот так же облапав Лидку, этот гитлеровец провожал ее с устроенных танцулек еще почти засветло, когда она заметила, будто у дома Кашиных открытой немецкой повозки кто-то в белой рубашке, ей показалось, метнулся в проулке. Провожатый сказал: это наверняка кто-нибудь хлеб воровал из повозки. На что она с готовностью плюхнула ему, что это, видать, соседский Валерка-проныра. О, этот добра не упустит. Она со злостью вспомнила, как он глобус школьный подобрал на дороге, почти что вырвав его у нее, — она-то сама хотела его поднять. И решительно показала гитлеровцу на дом Кашиных.
Тогда-то, весной, вся семья Кашиных, кроме переболевшей Наташи, валялась в брюшном тифу, и в их избе лежали еще несколько тифозных односельчан — по существ лазарет, устроенный немцами, которые боялись тифозных больных не меньше, чем партизан и старались от них изолироваться.
Наташа явно заразилась в марте тифом сначала от заболевших им трех пленных раненных красноармейцев, ездовых, работавших у немцев с упряжками на советских низкобортовых повозках и квартировавших в тетиполиной избе. Те были беспомощны и оставлены без пригляда. лекарств не было. Никаких. Так что Наташа по зову сердца своего выхаживала их, помогая Поле, а затем еще и следом заболевшим ей бабке Степаниде и Толи. Толик очень бредил в тифу. Вот расхаживал у себя в избе, взъерошенный и бросал ей слова:
— «Знаешь, Наташ, мы теперь живем — ого-го! (В нем дух частника всегда витал.) В подполе у нас соли полным-полно, сколько хочешь. Я чугунную мельницу поставил на чердак, представляешь! Молоть соль буду! Во-о как хорошо живем!»
В горячке перед ней он, тифозник, разбил оконное стекло и выпрыгнул из окна на улицу, полуголый, бюст окровавленный, и стал бегать. И на бегу ей наговаривал:
— «Всех наших нафиг убили, подлюги; матку в окно вытащили, бабку в трубу…»
Еле-еле его снова водворили в избу, уложили в лежбище. Заделали окно фанерой.
Наташа уже поправилась почти, когда тифозная зараза перекинулась на всю семью Кашиных. И она уже без продыху обхаживала всех Кашиных и тетю Дуню со Славой. Прислуживала всем немощным, мятущимся близким. Все больные лежали внизу на двухъярусных нарах, сколоченных немцами для наибольшего размещения солдат в доме. Не было ни лекарств, ни продуктов; врач, практикуясь сам по себе, заглядывал сюда редко, не задерживался нисколько.
Как же ей было тяжело, ей-то, такой молоденькой, ослабленной болезнью, питавшейся впроголодь.
Но самое страшное и ужасное для Наташи (она она да Валерий тогда не бредили, будучи здоровы, в более или менее нормальном психологическом состоянии, когда они трезво все могли понять и взвесить) в тот период повального перебаливания тифом, разумеется, было то, что мать находилась уже при смерти, самочувствие ее все ухудшалось и она уже не готовилась выздоравливать. Тогда один пришедший с уколами чачкинский доктор, подольше сидя у ее изголовья (а в ногах у нее толоклась-бредила Вера — кроватей и места для всех болящих не хватало), вслух еще раздумывал, обеспокоенный (он уже не делал из этого никакой врачебной тайны) о том, как ее спасти, если нечем, нет у него таких медицинских средств.
— «Тут или — или», — вслух рассуждал он далее — как бы и для все понимающей Наташи, и всех: или будет спасение, если он сделает укол с двойной дозой лекарства, или сердце, ослабевшее совсем, не выдержит — сдаст. И мать слабым, словно идущим из могилы, голосом заявляла просто: мол, делайте со мной, что хотите, а она и так не выдержит больше, умрет. Нет больше у нее моченьки.
И в этот-то кризисный момент Наташа, боявшаяся того, что мать действительно не вытянет, болезнь не переборет, скончается у нее на руках, встала перед нею на колени и молила со слезами навзрыд (ой как молила!):
— Матушка моя, ты только не умирай, нет, нет; ты только командуй мне, как и что делать, я все-все переделаю и сделаю так, и справлюсь; ты только не умирай, не бросай нас, прошу тебя, держись изо всей мочи…
Очень испугалась Наташа самого неблагоприятного исхода, взаправду поверила в подступившую к ней реальность — что ребятишки останутся одни, без матери — останутся на нее, сестру, одну.
Семилетняя Вера тогда вся-то, как юла, извертелась, испыхалась на кровати, в ногах у матери (мест для нее всех лежачих на хватало), — все чего-то рыла, рыла неустанно; она сильно дрыгала своими конечностями, толкала Анну, не разбирая, по ногам, бокам и ребрам. Надавала очень больно: в голове у Анны сотрясалось все. Анна просила ее, моля и досадуя:
— «Не елось, закрой глаза! Без тебя мне тошно так!»
А она в ответ лепетала, дите неразумное:
— «Мам, я их тискаю, чтобы они закрылись, спали — все-равно не помогает…»
Как чего отклеит — ой! Болтанулась-кувырнулась на пол, чуть не своротила Анну заодно с собой; кинулась к двери-крючок на нее бросила и, возрадовавшись, шмякнулась опять в кровать:
— «Все, теперь уже не войдет она сегодня к нам!»
На чей-то вопрос ответил:
— «Кто? Да эта докторша, кто уколы делает.»
И ведь она уже совсем лежала при смерти. Глаза закатила. Не ворочалась почти. Дышала трудно, жарко.
«Господи, хоть бы умерла — отмучилась бы враз!» — вслух и всерьез молилась Анна над ней. Стала-то глумной, и намного стало бы легче…
А Верочка, сокалик ясный, вдруг села на кровати да как запоет во весь голосок:
— «Расцветали яблони и груши…»
Всплеснула Анна чугунными руками:
— «Иисус Христос! Никак ты, девонька моя, воскресла с того света?!»
Больше она об этом не молила бога ни в полслуха, ни тайком…
XXVI
И вот тут-то еще загрохали истуканы в закрытую избную дверь. Повелительно. Наташа, подойдя к ней, спросила:
— Кто?
Требовательно прозвучало:
— Открой!
И она откинула крючок. Дверь распахнулась.
— Wo Dieb? Бандит! — Бесцеремонно вломился в избу в сопровождении Лидки, заразы — распаленный долговязый гитлеровец, остранил Наташу с пути, шагнул вперед.
— Где он?
— Кто он? — опешила Наташа.
— Сама знаешь — вор, — застрекотала Лидка, — воровал сейчас немецкий хлеб… Сюда обежал…
— Что вы! Не может быть! У нас все больные лежа… Ошиблись вы… Уходите!..
— Но я ведь своими же глазами видела, вот крест тебе, Наташа, забожилась стерва.
— В коридор ваш кто-то шмыгнул. Больше некуда…
— Что ты несешь напраслину, Лида, господь с тобой! Одумайся!
— Какая же напраслина, коли виела отчетливо…
— Ты видела — тогда показывай! — приказал тойгитлеровец.
— Ну, кто?
Кошкой пошла Лидка в перед кухни — нацелилась к кровати, на которой только что заснул уже тоже заболевавший тифом Валерий, и указала на него:
— Да вот он.
Спящему Валерию грезились уже сладкие яблоки и конфеты, когда подскочивший длинный фашист одной рукой дернул его за грудь (рубашка затрещала) и стащил его, ничего не понимавшего еще, на пол, в одном белье, а другой уже хватился за пистолет — отстегивал кобуру. Наташа, плача, закричала на всю улицу, чтобы помогли, и, растолкнув створки окна, стала биться с немцем — не давала тому в лапы брата, невинного ни в чем, оговоренного вертихвосткой. И тут все взбудораженные тифозники, лежащие в двух комнатах и не могшие самостоятельно передвигаться, тотчас услыхав и увидав, что делалось на кухне, все разом поползли туда на четвереньках и тоже закричали:
![Торговцы [=Торгаши]](/uploads/posts/books/187865/187865.jpg)