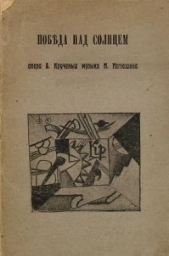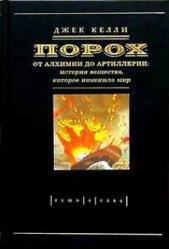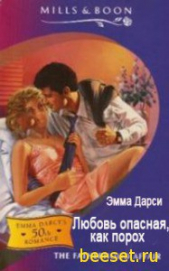Горелый Порох

Горелый Порох читать книгу онлайн
В книгу вошли две повести и рассказ нашего земляка писателя Петра Сальникова. По разному складывается судьба главных героев этих произведений. Денис Донцов (повесть «Горелый порох») сражается за Родину во время Великой Отечественной войны и попадает в лагерь для военнопленных, тезки-одногодки Николай Вешний и Николай Зимний уходят на фронт из одного села, крестьянин Авдей, вырастивший внука Веньку и не подозревает, что очень скоро его воспитанник окажется на чужбине…
Все они опалены войной и всем им предстоят нелегкие испытания. Автор делает попытку переосмыслить прошлое и рисует эпическую картину русской жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Спой-сыграй, милай! — взмолился в нетерпении дед. — Венькину…
Гордюха ни голосом, ни гармонной ловкостью особо не обладал. Но об этом он не знал и пел с достоинством.
— Про «то самое», значит?… Венькину? — еще раз переспрашивает Гордюха. Берет гармонь, усаживается поудобнее, растворяет крохотное оконце в будке — для воздуха, начинает играть и петь.
Начинал он все-таки со своей песни, а не с той, которая люба Авдею.
Лебединая нежность никак не подходила к чугунно-колокольной глотке Гордюхи. Однако ему становилось так одиноко и тошно, что он готов был насмерть заласкать эту милую девичью песню.
Авдей терпеливо молчит, теребит, залезши в рубаху, на груди крестик, слушает. Слушает, как горюет по человечьему счастью Гордюха, чует, как жадно и могуче хочется парню обнять мир и возлюбить всех и вся. Думает и сопереживает, а свое ждет. Запел, наконец, Гордюха и Венькину песню. Необъятная нежность Гордеевой песни, ее лебединая крылатость как-то вдруг, надрывно и резко, сменилась печальной чужбинной песней — о солдатской чести и святости духа, о сыновней любви к родному крову и отечеству. Но даже эта высокая любовь к отчему краю застилась еще более высоким чувством и памятью о самом близком человеке на свете — о деде Авдее:
— пел Гордюха, разумно призакрыв глаза. И что-то колокольно-звонное слышалось в его задушевном голосе. Авдей того и ждал — закрестился, завздыхал, целиком отдаваясь воле песни.
Прислал эту песню вместе с письмом и карточкой внук Венька, единственный уцелевший отколыш от некогда могутного родового древа старого Авдея Голомысова. Прислал из Афганистана, далекой, чужеземной, неведомой да и не нужной ни самому Веньке, ни его деду и даже всей России, страны. Крохотную карточку с письмом Авдей хранил под подкладкой шапки. При каждом всплеске памяти старик разглядывал едва видящим глазом внука, говорил с ним, как с живым, грустил и наслаждался призрачным свиданием. Глядел и слегка тужил, что на голове солдата, вместо привычной армейской пилотки или фуражки, была надета панама, отчего Венька мало походил на самого себя. Виделось в нем что-то чужое, казенное и почти не русское…
Листок же с песней отобрал у Авдея Гордюха. Он мучительно и долго, однако с нутряным наслаждением подбирал под ее слова подходящий «мотив» на гармони. Ничего из старинного, да и из современных мелодий, какие знал Гордюха, никак не подходило. Он безжалостно драл свою глотку, терзал гармонь — и все никак.
— Мудрено, значит? — сочувствовал Авдей, глядя на муки Гордюхи. — Венька-то, небось, под гитару насочинял. Он гораздый был на выдумки, — похваляясь внуком, старик снова и снова лез в шапку, чтоб еще и еще раз поглядеть на солдата.
На снимке он стоял у танка в боевой группе десанта. Как и у других, в распахе гимнастерки виднелся полосатый косячок тельняшки, над левым карманом висела белая медалька. Лицами все ребята были худы и усталы, хотя и довольны — то ли удачным боем, то ли успешным марш-походом. Среди товарищей Венька, однако, выделялся тем, что на голове его надета панама, а не каска. Деду это было не по душе. И всякий раз, когда он глядел на карточку, недовольно ворчал: «Вот норовистый, дьяволенок, — и на войне форсит…» Ворчал и слезно просил Гордюху (он за деда писал письма Веньке): «Отпиши ему, ради Христа, чтоб надел каску!.. Не на гулянке ведь — долго ли до греха…»
В том Венькином письме были и утешные слова — о том, что война в Афгане вот-вот кончится и его часть скоро перебросят на Кавказ. Что потом и случилось…
«Слава тебе, Господи! — на радостях молился Авдей. — Кавказ — не чужбина. Тут — своя земля: роднее и горы и люди…»
II
Ночь-заполночь — Гордюха настороже. Однако на этот раз заспало его, как в бездельный ненастный день. Не разбуди — проспал бы до морковкиных заговен. По росяной рани — чуть свет — прибежал на паром сынишка предсельсовета с запиской. Легонько ругнувшись на озябшего спросонья паренька за преждевременную побудку, паромщик нехотя взял бумагу из рук мальца и прочитал: «Гордей, держи свою плавмашину в готовности — ожидается важный груз с гуманитарной помощью. Вместе с нашим начальством будут иностранцы. Кажись, немцы. Пред. Захаркин».
— Груз — ладно, дело привычное… А на иностранцев ишо поглядим, — пробубнил Гордюха незнамо кому. Сдернул со снизки пару вяленых подлещиков и подал мальчишке: — Держи! Других гостинцев не имеется. Отцу скажи: пусть не трусится. Перевезем и заграничников — не намочим…
Как ни держал свою гордыню Гордюха, свою работу исполнял с тем честолюбием и надежностью, какие обрел еще на морской службе. Воевал он после войны. Будучи водолазом-сапером, разминировал глубины Балтики и Баренцева моря. Невпроворот этой работы было и на берегу.
В таком деле ошибаются только раз. Вышла промашка и у Гордея Зыкина. К счастью, не смертельная. После полугодовой отлежки в госпитале списали с флота. Ранение случилось чудное, после которого не было надобности заводить семью. Шатался по речным портам, работал мотористом и грузчиком, сулили поставить механиком на буксирный катер, однако, научился пить, и «карьера наскочила на мину», — так и говорил о себе Гордюха…
От людей же Авдей слышал о нем иное: «Не в одной тюрьме побывал Гордюха, мужик он сволочеватый и куражливый, с будоражной жилой в башке». Никто и никак из деревенских с ним связываться не хотел или побаивался. А местное начальство того больше: как только Гордюха объявился в здешних местах, сговорились — на работу не брать. Но какой-то умник посоветовал другой выход:
— На паром его! От греха подальше…
Паром находился в полутора верстах от деревни, в глухом и неприветливом местечке. Расчет начальства был верным: работу дали — дали, не пожалуется; а на пароме вольный человек долго не протянет, сбежит. Однако, к удивлению всех, Гордюха не капризничал — ему нужна была работа.
Тогда-то и ожил изрядно подстаревший Авдей, промышлявший легким перевозом на старенькой плоскодонке. Привязался он к парню слепо и крепко.
С той поры Авдей с Гордюхой зажили так, будто они были в давнем сродстве. Да и по судьбе они схожи, как пара колес на одной оси. Старик тоже не из здешних старожилов. Позвал его сюда сын Михаил: не хотел, чтобы отец после смерти матери изошел в тоске и одиночестве. Но, как оказалось потом, не «чужая тоска» тому причиной. Михаил с женкой по вербовке работал на здешнем каменном карьере, где добывался и тесался камень для московского метро. Когда подрос внук Венька и пошел в школу, понадобился родительский пригляд за ним. Отцу с матерью все труднее становилось следить за его проказами, на какие он был горазд с мальства. Познав первую грамоту, Венька исчеркал все ворота и заборы на деревне непотребными словами. А когда добрался до колхозной «Доски почета» — всем знатным дояркам понамалевал усы, а трактористам — бороды (за что родителей подвергли накладистому штрафу), и вовсе стало невмоготу. Отец на глазах всей деревни выпорол Веньку за его «наглядную агитацию» и вызвал деда Авдея.
Старик же в «няни» не сподобился, но жизнь внука оборотил на свой лад: с ползимы снял со школы и «переподчинил» себе. Сыну и снохе выговорил: «Удумали шестилетка в грамотейный хомут втюхать. Малец еще свою травку не вытоптал, в небо не насмотрелся, как след солнцем не ожегся… Да мало ли што ишо Богом определено пареньку в изначале-то жизни, а его из пеленок да головой в науки всякие — считать-отнимать наловчают, под француза гундосить понуждают, по газетам думы складывать приказуют — и как тут не сойти с ума?…»