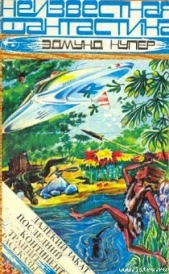Одесситки

Одесситки читать книгу онлайн
Первая книга Ольги Приходченко рассказывает о военной и послевоенной Одессе, ее замечательных людях, о грустном и смешном. Книга пронизана любовью к Одессе и одесситам. И самое главное — она написана сердцем…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вся Коганка заболела цирком. Бедный Иван Иванович, наверное, и не рад был, что с нами связался, но вида не показывал. И всё приглашал прийти в цирк мою маму. Наконец она согласилась. И в воскресенье, когда я помогала ей на станции, она, подмазав губы помадой, переодевшись в Алкино пальто с куницей, пошла со мною на дневное представление. Иван Иванович уже поджидал нас. Гардеробщик с поклоном взял наши вещи, Иван Иванович стал приглашать нас в буфет, но мама наотрез отказалась. Тогда он повёл нас в партер на самые лучшие места. В партере было совсем другое дело, я подняла голову и посмотрела на далёкую галёрку, наших мест совсем не было видно. По рядам галерки уже двигались первые зрители, такие малюсенькие. Всё правильно, чтобы увидеть арену с галёрки, мы ведь сильно наклонялись вниз, перегибались, взрослые нас все время ругали и нервничали. Там даже по всему кругу была сетка, для случайно свалившихся. А отсюда из партера даже Олежка бы увидел, что его Пахчоой совсем старуха. У неё одутловатое лицо, и вообще эти лилипуты все похожи между собой. Их мальчики даже меньше девочек. И кривляются они неестественно, сильно уж наиграно. Нет, с галёрки всё выглядит более сказочно, а отсюда видно, что у Пахчоой заштопанные розовые чулочки и сильно протёрты атласные туфельки. К тому же она среди лилипутов самая толстая, как наш Олежка.
Я всё время хотела маме рассказать, что будет сейчас, но она меня одёргивала и, как Олежка, переживала всё представление. Тётка, сидящая рядом, тоже на меня злилась, делала мне замечания, чтобы я заткнулась. Объявили наш номер «Собачья школа». Этот номер из партера смотрелся совсем иначе. В сто тысяч раз лучше, чем с галёрки. Слышно было не только лай, но и дыхание собачек. Отличники, все гладкошёрстные, чистенькие, прямо шёрстка блестит на них, ушки стоят, дрожат, когда отвечают, наверное, боятся ошибиться. Тянут лапки кверху, так хотят пятерку получить. А двоечник лохматый, нечёсаный, как глазками водит, ну настоящий артист!
В своём представлении Иван Иванович всегда приглашал на сцену кого-либо из зрителей, чтобы задавать задачки его ученикам. Ну, чтобы зрители верили, что собачки на самом деле умеют считать и всё это не подстроено нарочно. Вдруг Иван Иванович сегодня стал приглашать кого-то, глядя в нашу сторону. Я видела, что он показывает рукой на меня. От страха я вжалась в кресло, все на меня смотрят, мама подталкивает и даже тётка соседняя, елейным голоском: деточка иди, он тебя зовёт. Но я словно окаменела. Тогда Иван Иванович сам подошел, протянул мне руку, и я как завороженная, под аплодисменты зрителей неуклюже переползла на арену. Иван Иванович попросил собачек со мной поздороваться. Спросил, как меня зовут, но я не могла раскрыть даже рот, тогда он сам за меня сказал, очень громко: эту девочку зовут Оля, она вас проэкзаменует. И так тихонечко мне говорит, скажи два плюс два. Как я выкакала эти слова, не помню. Иван Иванович достал досточки с двумя нарисованными двойками и знаком сложения посреди, передал их мне и попросил поднять повыше, чтобы все видели, и покрутиться. Потом вызвал отличника, и тот прогавкал четыре раза. Иван Иванович опять обратился ко мне: «Оленька, сколько мы ему поставим?» Я опять еле слышно ответила: «Пять!» Сама чуть не плачу, а он так громко закричал, чтобы и на галёрке было слышно: «Отлично!» И отпустил меня к маме. Было очень стыдно, изнутри меня всю колотило, я боялась смотреть по сторонам. Мне казалось, что на меня все смотрят и посмеиваются над тем, как я растерялась на арене. После спектакля Иван Иванович всё же затащил нас с мамой в буфет. Он угощал нас пирожными и газированной водой. Поздравлял меня с дебютом на сцене. Смеялся, как мальчишка, рассказывая моей маме, как он сам первый раз чуть не обделался на сцене. Ему тогда было четыре годика. Он родился и вырос в цирке, сам из цирковой династии знаменитых наездников, но мама только вежливо кивала ему головой, пытаясь поскорее уйти.
— А тебя, Оля, как будущую артистку, ждёт подарок, — сказал Иван Иванович. Его помощник подвёл на поводке небольшую лохматую чёрную собачку.
— Его зовут Джимик, он заслуженный артист цирка.
Собачка уселась у ног своего учителя, уставившись на него не моргая, будто понимала, что о ее судьбе идёт речь.
— Джимик, подойди к Оле, подай ей лапку, познакомься.
Собачка тут же всё исполнила и опять уселась рядом со своим
учителем.
— Джимик, это твоя новая хозяйка! Иди к ней.
Тут в дело вмешалась мама.
— Иван Иванович, большое спасибо за оказанную честь, но мы не можем взять такой дорогой подарок. У нас в квартире уже живёт кошка и курица Рябка, так что ещё раз спасибо, мы уже пойдём.
— Вот и замечательно, пёсик с ними подружится, не беспокойтесь, он ведь очень умный, он не создаст вам никаких проблем. Просто мне некуда его деть. Видите, он пенсионер уже по возрасту. В цирке своё отработал, а здесь законы суровые. Я не могу его просто так выбросить на улицу или отдать на живодёрку.
И Иван Иванович быстро так посмотрел на меня: на мыло. Газированная вода вышла у меня через нос, судьба Джимика была решена положительно. Чего нельзя было сказать об Иване Ивановиче и маме. После цирка он пошёл нас провожать, но предложил сначала прогуляться, чтобы Джимик немного к нам привык. Я с мамой никогда раньше не гуляла по городу. Только с сестрой, да и то по делу. Правда, пару раз Лёнька с Гандзей брали меня с собой. Я бежала с собачкой впереди, а мама с Иваном Ивановичем постоянно отставали, о чём-то беседуя. Разговор, наверное, был интересным, моя мама смеялась. Я раньше никогда не слышала, чтобы моя мама так смеялась. Оказалось, что он пригласил маму вместе с девочками, то есть с нами обеими, переехать к нему в Москву, расхваливал свою квартиру на Покровке, обещал золотые горы.
Мама ему наотрез отказала, на радость бабке, возмущению которой не было предела. И в цирк мы перестали ходить. Зато у нас остался Джимик, которого бабка называла не иначе, как циркач или подлец, весь хитрюга в своего хозяина. А сама-то ему из мяса все жилочки вырезала, потом секачкой еще рубила — жалела старика-артиста, у которого выпадали зубы и он жалобно скулил, когда они болели. При этом приговаривала: животное не виновато, оно не может отвечать за хозяев. Горбатился весь свой собачий век на циркача, а стар стал, так пустили бы тебя на живодёрку. Вот нас, дураков, нашёл, циркач паршивый, теперь корми тебя, бездельника, ухаживай. Ну, давай настоечкой дёсенки тебе протру и ушки закапаю. Иди ко мне псина безродная, артист сраный, рахуба на мою голову.
И маму мою всё время попрекала: ещё чего удумала, тебе двоих мало, ещё захотела? Свою жизнь просрала, так хоть бы о девчонках подумала. Нашла кого слушать, циркача заезжего, гастролера-афериста. У них, как у моряков, в каждом городе любовь. Второго Ташкента захотелось? Да так маму доставала, что она, бедная, не доев супа, бросала ложку и ложилась в кровать, согнувшись калачиком тихо плакала. Жалко было и маму и бабушку, которая опустив голову на свои красные от вечной стирки руки, тоже плаката.
Мне тоже себя очень жалко, и я лежу на кухне, на бывшей Ноночкиной кроватке и молча плачу, слёзы сами текут и текут. Так обидно, у других соседей все радуются, смеются, музыка играет, а у нас то Лёнька Гандзю бросил с Олежкой, и та на малом злобу вымещает, то Ноночка, такая молодая и красивая, умерла, и дедушка всё время болеет. От его вонючих мазей у нас уже всё провонялось. Никто из детей на Коганке не ходит на работы к своим матерям, помогать им. Целыми днями бьют байды во дворе: то в скакалки прыгают, то в классики играют. Никаких секций спортивных не посещают, музыкой не занимаются, школу казёнят и плохо учатся. А здесь уже сил никаких нет, плечо болит, руку тянет до локтя, пальцы сводит. Но я буду всё равно артисткой, правда, Джимик? Идём жрать, я подняла крышку инструмента, руки сами понеслись по клавишам. Джимик всё понимал, он улёгся на мои ноги, тёплым тельцем согревая их и тяжело вздыхая. Каждый раз, поднимая головку, смотрел на меня, если я прекращала играть. Он ведь старый артист и всё понимает.