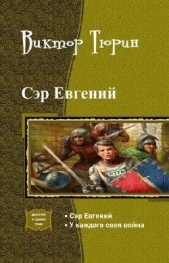Распутин
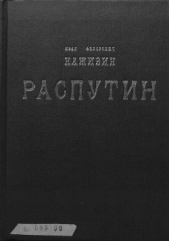
Распутин читать книгу онлайн
Впервые в России печатается роман русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940), который после публикации в Берлине в 1923 году и перевода на английский, немецкий и чешский языки был необычайно популярен в Европе и Америке и заслужил высокую оценку таких известных писателей, как Томас Манн и Сельма Лагерлеф.
Роман об одной из самых загадочных личностей начала XX в. — Григории Распутине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Па-азвольте, полупочтенный… — вмешался архитектор. — Масленица прошла, и кататься мы не ж-желаем…
Тревожные женские голоса уговаривали бушевавшего Василия Артамоновича. Кто-то засмеялся пьяным смехом. Угрюмо и с ненавистью отвечал сторож Матвей. В окно угрюмо смотрели непогожие сумерки, и мрачны были черные лесные дали. Ах, нехороша, непонятна, жестока жизнь! Алексей Васильевич уронил голову на стол и завыл.
— Это еще что за новости такие? — раздался за ним насмешливый пьяный голос жены. — Нажрался? Ну, реви… А мы вот кататься желаем…
В передней вдруг опять взорвались пьяные голоса.
— А-а… — орал бешено Василий Артамонович. — Так секретничать с ним, щенком белогубым, захотелось?.. Шуры-муры?..
— Да помилуйте, Василий Артамонович… Да разве я посмею?.. — белыми губами оправдывался струсивший Кондратий Иванович. — Что вы?..
Аксинья Ивановна, бросив мужа, вылетела в затоптанную переднюю.
— Ну и ревнивец! — хихикнула она пьяно. — Да что Кондратий Иванович съест, что ли, ее? Не убудет…
— С молокососом? А? Ах ты, мразь…
Петрушка с Сашкой просто за животики хватались со смеху. Архитектор тупо уставился на буяна своими водянистыми глазами, точно соображая что.
— Оставьте, Василий Артамоныч… — робко вступилась за дочь Матвеевна. — Что вы издеваетесь-то? Не крепостная…
— А-а, не крепостная… — вдруг взвизгнул Василий Артамонович, точно он только и ожидал этого слова. — Не крепостная?! Не смей, значит, и слова сказать?! Так на ж вот тебе, шкуреха!
И со всего размаха он ударил жену по побледневшему и омертвевшему лицу…
— Па-азвольте… Пазвольте… — вдруг вмешался архитектор. — Если вы джентльмен…
— Ах ты, негодяй… — вдруг вспыхнула Валентина Николаевна, которая вообще терпеть не могла этого шибздика. — Да как ты смеешь? Давно ли она у тебя после родов встала?
— Я не смею? Я?!
И снова он быстро хлестнул по лицу плакавшую навзрыд жену. Кондратий Иванович от ужаса едва держался на ногах. Акушерка с искаженным от бешенства лицом бросилась к буяну.
— А-а, и тебе захотелось? — бешено заревел он. — Паллучай!
И девушку ожгла звонкая пощечина.
Не помня себя от ярости, она рванулась к Василию Артамоновичу, сбила с него шапку из фальшивого бобра, вцепившись в волосы, швырнула его на грязный пол и, задыхаясь, стала бить его как попало.
— Вот тебе, сволочь ты эдакая… Вот тебе! Вот тебе!
Избитая жена мучительно рыдала. Плакала Матвеевна жалкими старческими слезами. Петруша, Сашка и Аксинья Ивановна с ног валились от душившего их хохота.
— Вал-ляй его! — крикнул сторож Матвей, тоже хлебнувший пойла. — Ай да фиршалиха! Одно слово: георгиевский кавалер первой степени!.. Ай да девка! Вал-ляй его, сукина сына…
— Ах ты, сволочь ты паршивая! Ах ты, мразь… — стонала от ярости и отвращения девушка, мотая по полу свою жертву туда и сюда. — Ты учитель? Учитель? Так вот тебе, вот тебе, вот тебе!..
А за окном под рев гармошки парни-призывные дико орали:
XIV
ГИБЕЛЬ ДЕРЕВНИ
Сергею Терентьевичу жилось очень тяжело. Бессмысленный и ужасный скандал в школе точно скалой придавил его. Пусть это был случай исключительный, но и жизнь повседневная, ровная и серая, тяготила его не меньше, если не больше: разложение народа под ударами войны пошло еще быстрее, чем прежде. Точно какой-то жуткий антонов огонь съедал деревню. Она и раньше тяжело болела, и болезнь эту подмечал не один он. Не так давно ездил он в глухое Славцево, в леса, приторговать себе для хутора готовые срубы и разговорился там с лесником-стариком, хмурым молчаливым человеком с тяжело нависшими лохматыми бровями, из-под которых умно и проницательно смотрели серьезные глаза. Старик одобрил его мысль уйти на хутор.
— Трудно с вашим народом жить стало… — сказал он. — Народ легкий, все кнутоверт больше, барышник. Землю он бросил, а все норовит как бы торговлей заняться, как бы кого объегорить, как бы кого поднадуть. Вот и ездит туды и сюды, кнутом вертит: с косами, с красным товаром, со скотинкой, лошадьми барышничают… Пустой народ…
— Почему же пустой? — заинтересовался Сергей Терентьевич, слыша, как грубо и просто высказывал старик его же собственные думы.
— Нет в ём никакой силы… — сказал старик, двигая своими лохматыми бровями. — Так, видимость только одна. Девки в праздник выйдут, папоры эти наденут или какоры, что ли, пес их знает, а под папором-то вшей не огребешь. В руках у кажной мухта опять, а рубашки сменной в баню сходить нету. Необстоятельный народ… Город близко, и опять же и тут учителя эти, кушерки глаза мозолят, фиршала в манишках — вот от них и набаловались… Сегодни папор, завтра мухту подавай да лампасе к чаю, ан, глядишь, человек-то и пропал…
— Пожалуй, это и верно, дед, что ты говоришь… — сказал Сергей Терентьевич. — Но вот: что же делать? Как спастись?..
— А это уж сам гляди… — неохотно отозвался старик.
— Однако?
— Бога помнить, брат, надо… — сказал тот. — Читают ли когда ваши кнутоверты святоотеческие книги-то? Небось и не видывали, какие они бывают… А там все предуказано…
Сергей Терентьевич помолчал.
— А ежели в книгах твоих такая сила, почему же не спасли они людей? — тихо сказал он, несколько неожиданно для самого себя. — Тысячи лет читают их люди, а что-то жизнь вот по ним не наладилась…
Старик угрюмо промолчал.
И под ударами войны эта вот болезнь, это разложение народа пошло гигантскими шагами.
На фронт из окшинского края попадали только разве очень уж большие ротозеи, а остальные все пристраивались к обороне в тылу: на железные дороги, на фабрики, работающие для армии, при госпиталях. Да и те, которые попадали на фронт, с быстротой невероятной оказывались в плену, и когда родители после долгого перерыва получали, наконец, открытку из Германии или Австрии, они истово крестились и с гордостью говорили:
— Ну вот и слава Богу… Наш Ванятка парень ловкай. Вот теперя в плен исхитрился сдаться…
Подошел раз Сергей Терентьевич незаметно к сходу. Мужики галдели вокруг Федьки Кабана, которого только что привезли из Окшинска, из лазарета: с отбитыми ногами, совсем без голоса, смотреть не на что…
— И дивлюсь я на тебя, Федька, парень ты словно был не промах, а дал себя так обработать… — говорили мужики. — Чего ж ты зевал-то?
— А чего поделашь? — натужно чуть сипел Федька. — Она, брат, не смотрит, куды бьет…
— Она не смотрит, ты смотри… Ты погляди-ка, все твои приятели целы — один ты опростоволосился…
Но Федька только глаза отводил: по деревне на костылях ползет, едва сипит, будто голоса совсем решился, а чуть отвернутся, глядишь, — с ружьем за лосями на Уж бол бежит, за охотой. И эту комедию свою с увечьем проделывал он всю войну и так перещеголял даже всех своих приятелей: те в плену томились, а этот дома жил с бабой, зайцев жарил и способие получал, а на дураков-докторов смотрел с величайшим презрением.
И если какой ловкач являлся домой с Егоргием, то домашние его гордились им и говорили:
Ловко Петька, подлец, к начальству подольстился: крест дали… Петька он парень ловкай…
И — торопились в город за очередным способием.
Вокруг этого способия шла настоящая свалка. За способием лезли решительно все, даже те, кто не имел на него по закону никакого права. «У царя денег много, на всех хватит, — говорили окшинцы, — а не хватит, так велит еще отпечатать, рази ему долго?» Сергей Терентьевич, как человек письменный, осаждался просьбами написать прошеньице беспрерывно. Когда по совести это было нужно, он писал, а когда просьба была явно беззаконна и бессовестна, отказывал. И этим он нажил себе еще больше врагов, чем прежде. В особую ярость пришла семья беспоповца Субботина, Смолячихи, сын которой устроился писарем в Пензе и которая, тем не менее, будучи к тому же весьма зажиточной и даже просто богатой, способие хотела непременно получать: чем же мы-то хуже других? Бешеный Субботин грозился даже сжечь проклятого шелапута за его сопротивление в деле способия.


![Сэр Евгений [СИ]](/uploads/posts/books/35451/35451.jpg)