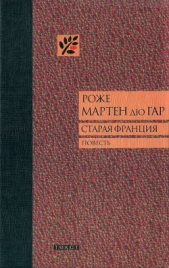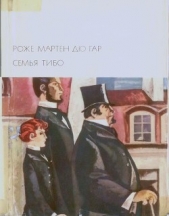Семья Тибо (Том 1)

Семья Тибо (Том 1) читать книгу онлайн
Роман-эпопея классика французской литературы Роже Мартен дю Гара посвящен эпохе великой смены двух миров, связанной с войнами и революцией (XIX - начало XX века). На примере судьбы каждого члена семьи Тибо автор вскрывает сущность человека и показывает жизнь в ее наивысшем выражении жизнь как творчество и человека как творца.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- В ту пору, - продолжал он, - я отправлял Даниэлю письма на тридцати страницах, кропал всю ночь напролет! Письма, в которых я делился всем, что пережил за день, - чем восторгался, а главное, что ненавидел! Э, да теперь бы мне следовало над этим посмеяться... Но нет, - сказал он, сжимая лоб руками, - я так из-за этого настрадался, я еще не могу простить!.. Я взял у Даниэля эти письма. Перечел их. Каждое - будто исповедь сумасшедшего в минуту просветления. Они писались с промежутком в несколько дней, иногда - в несколько часов. И каждое было словно бурным отголоском очередного душевного кризиса, который чаще всего оказывался в противоречии с кризисом предыдущим. Кризисом в области религии, потому что я очертя голову бросался то в Евангелие, то в Ветхий завет, то в позитивизм Конта 64. А какое письмо я состряпал, начитавшись Эмерсона 65! Я переболел всеми болезнями отрочества: острым "виньитом", тяжелым "бодлеритом". Но хронических недугов не знал! Утром, скажем, я был приверженцем классицизма, а вечером - ярым романтиком и тайком сжигал в лаборатории Антуана томик Малерба или томик Буало 66. Сжигал в полном одиночестве и смеялся демоническим смехом! На другой день все, что имело отношение к литературе, представлялось мне пустым, тошнотворным. Я вгрызался в учебник геометрии, начиная с азов; я твердо решал открыть новые законы, которым предстояло поколебать все научные данные, завоеванные ранее. А засим снова становился стихотворцем. Я посвящал Даниэлю Оды, сочинял послания в две сотни стихотворных строк, написанных почти без помарок. Но самое невероятное вот что, - заметил Жак, вдруг успокаиваясь, - я написал совершенно всерьез и притом по-английски, - да, да, целиком по-английски, - трактат на восьмидесяти страницах об "Эмансипации индивида в его взаимоотношениях с Обществом": "The emansipation of the individual in relation to Society!" Он у меня сохранился. Постойте, это еще не все, - с предисловием, признаюсь, куцым, но зато... на новогреческом языке! - (Последняя деталь была вымыслом; ему просто запомнилось, что он хотел такое предисловие написать.) Он расхохотался. И продолжал, помолчав: - Нет, я не сумасшедший. - Снова ненадолго умолк и полусерьезно, полушутливо, впрочем, ничуть не важничая, заявил: - И все же я сильно отличался от других...
Женни поглаживала собачку и размышляла. Уже сколько раз ей казалось, что в нем есть что-то пугающее, чуть ли не опасное! Однако пришлось сознаться, что больше он ее не отпугивал.
Жак растянулся на траве и смотрел вдаль. Был счастлив, что может говорить так непринужденно.
- Славно здесь, под деревьями, правда? - спросил он лениво.
- Славно. А который час?
Часов у них не оказалось. Опушка парка была рядом, спешить было некуда; отсюда Женни были видны верхушки знакомых каштанов, а подальше, у дома лесничего, кедр, распластавший темные перистые ветки на лазури неба.
Она наклонилась к собачке, которая прижалась к ее ногам, и проговорила, умышленно не глядя на Жака.
- Даниэль читал мне кое-что из ваших стихов.
А чуть погодя, пораженная его молчанием, она отважилась взглянуть на него: он покраснел до корней волос; яростно оглядывался. Она тоже покраснела и воскликнула:
- Ах, зачем я вам рассказала!
Жак уже укорял себя за вспышку и пытался овладеть собой, но невыносимо было думать, что кто-то - а тем более Женни! - станет судить о нем по его младенческому лепету; это особенно уязвляло его, ибо он отдавал себе отчет в том, что еще ничем не проявил себя в полную меру; от этого он терзался каждодневно, всю жизнь.
- Мои стихи чепуха! - резко бросил он. (Она не возражала, даже рукой не шевельнула, и он был ей за это благодарен.) - Надо быть очень уж низкого обо мне мнения, чтобы... И те, кто... О, да если б только, - под конец крикнул он, - догадывались, что я намерен создать!
И эта жгучая тема, близость Женни, безлюдье так его разволновали, что голос его сорвался и глаза защипало, казалось, он вот-вот зальется слезами.
- Послушайте, - продолжал он, немного помолчав, - вот так же меня поздравляют с поступлением в Нормаль! Да если б они знали, что я сам об этом думаю! Ведь я стыжусь! Стыжусь! Стыжусь не только того, что принят, а стыжусь, что приемлю... суждение всех этих... Ах, если б вы только знали, что они собой представляют! Все скроены на один лад, воспитаны на одних и тех же книгах. Чтиво, вечное чтиво! И я - вынужден был выпрашивать... у них... Я гнул спину... Уф... Да я...
Слов не хватало. Он отлично чувствовал, что не приводит веских обоснований своей ненависти, но убедительные, непреложные аргументы слишком живо отзывались в сердце, слишком уж срослись с ним, и никак нельзя было сразу их вырвать оттуда, выставить напоказ.
- Ах, как я их всех презираю! - крикнул он. - А себя еще больше за то, что я - среди них! И никогда, никогда я не смогу... не смогу все это простить!
Она хранила самообладание именно оттого, что он был вне себя. Заметила, - впрочем, не вполне улавливая мысль Жака, - что он часто высказывает какое-то злобное чувство и не желает кому-то прощать. Должно быть, он действительно настрадался. И все же - как в этом он отличался от нее! - все его слова проникнуты верой в будущее, в какое-то грядущее счастье, во всех его проклятьях чувствуется неисчерпаемая, одушевляющая сила надежды, уверенности в себе; очевидно, честолюбие у него было безмерное и отметало все сомнения. Женни никогда не задумывалась о том, какое будущее ждет Жака. Но она ничуть не была удивлена, обнаружив, что цель он ставит перед собой высокую; даже в те времена, когда она считала Жака грубым, неотесанным мальчишкой, она признавала его силу, а сегодня лихорадочные речи, огонь, который, как она чувствовала, пожирает сердце Жака, довели ее до головокружения, - будто ее, помимо воли, затягивает в тот же круговорот. И ее захлестнуло такое тягостное чувство незащищенности, что она вдруг поднялась.
- Простите меня, - сдавленным голосом сказал Жак, - дело в том, что все это... больно задевает меня за живое.
Они пошли по дорожке, которая, как дозорная тропа, следовала за всеми извивами широкого векового рва, и вышли к другим воротам, ведущим из леса в парк; были они заделаны решеткой из копьевидных прутьев, с засовом, скрипучим, как тюремный замок.
Солнце стояло высоко, было часа четыре, не больше. Ничто не принуждало их уже прекращать прогулку. Отчего же они повернули назад?
В парке им повстречались гуляющие, и если еще вчера они шли бы по тем же аллеям, не помышляя ни о чем дурном, то сегодня оба вдруг смутились оттого, что были вместе, наедине.
- Ну что ж, - вдруг сказал Жак на перекрестке двух аллей, - здесь я, пожалуй, и покину вас, хорошо?
Она ответила, не колеблясь:
- Конечно. Я почти дома.
Он стоял перед ней, почему-то робея, забыв снять Шляпу. И от смятения на его лице снова появилось неприятное, хмурое выражение, которое появлялось так часто, но которого она ни разу не подметила во время всей их прогулки. Руку он ей не протянул. Насильно улыбнулся и, уже собираясь уходить, несмело посмотрел на нее и пробормотал:
- Отчего... я не всегда... так... держусь с вами?
Женни не подала вида, что услышала его, и побежала без оглядки, напрямик, по траве. Ведь это было почти слово в слово то самое, что она твердила себе со вчерашнего дня. Но вдруг души ее коснулось подозрение, в котором она с трудом решилась признаться себе, - а что, если Жак хотел сказать: "Почему мне нельзя всегда быть рядом с вами, как сегодня?" От этого предположения ее обдало жаром. Она побежала еще быстрее, и, когда влетела к себе в спальню, щеки у нее пылали, ноги подкашивались и она запретила себе думать.
Остаток дня она провела в лихорадочной деятельности: сделала перестановку у себя в спальне, навела порядок в бельевом шкафу, на лестничной площадке, переменила цветы во всех вазах. То и дело она брала на руки собачку, обнимала ее, осыпала ласками. Сверившись в последний раз со стенными часами, она поняла, что Даниэль к обеду не вернется, и пришла в отчаяние: не могла она сесть за стол в одиночестве! Вместо обеда она съела тарелку земляники, сидя на террасе, и, чтобы не видеть, как томительно угасает день, убежала в гостиную, зажгла все лампы и взяла тетрадь Бетховена. Но тут же передумала, отложила Бетховена, схватила тетрадь "Этюдов" Шопена и бросилась к фортепиано.