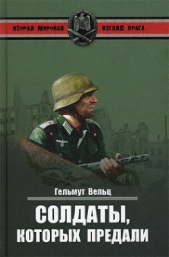Мгновение – вечность
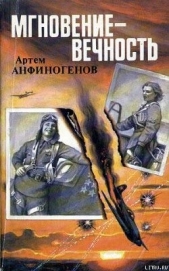
Мгновение – вечность читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Одно слово невпопад, – думал Кулев, – и все пошло прахом…»
– Вот здесь, – майор надавил на карту ногтем, – самолет капитана Авдыша… Согласно его рапорту. Будто бы поврежден в бою мотор, произвел посадку на колеса. Такую подал версию. Не знаю… При случае опроси жителей, составь протокол. Авдыша знаешь?
– Фамилия встречалась… Баянист?
– Играет… И скрипочку с собой возит…
– У нас в полку на финском фронте был летчик Авдыш, баянист…
– Тот еще музыкант!.. Как на задание идти, так фортель. Теперь разнес в дымину исправный «ИЛ». Полковник Раздаев при тебе сформулировал? Будет отвечать согласно приказу двести двадцать семь… Все с Авдышем! Все! Он из себя обиженного строит, так ты данные о нем подсобери… чтобы была картина… В этом районе. – Он постучал по карте ногтем, задумчиво в нее глядя.
«Одно слово», – сокрушался Кулев.
– Не вешай носа, лейтенант!.. «Держись за ношу, какую тянешь», – говаривал Василий Михайлович. – Печальная улыбка прошла по лицу Егошина. – И я тебе, товарищ лейтенант, скажу на дорогу: держись за ношу, какую тянешь…
Старшина Шебельниченко, узнав о предстоящей поездке в степь, заартачился:
– Только ноги оттуда унесли – и обратно немцу в пасть…
– Разговорчики, старшина! Вы назначены моим помощником.
– Кто назначил?
– Командир полка!
Педантичность майора техсоставу известна, – не сядет в самолет, прежде чем не пройдется по кабине белой тряпочкой, проверяя, хорошо ли снята пыль… Не раз страдая от майора, Шебельниченко в спорах о нем держал сторону командира и повиновался ему безропотно.
– Нижне-Чирскую увидим? – спросил старшина.
– Нет.
– А Котлубань?
– Котлубань не исключена.
На пути к Волге табор егошинского полка свертывал и разбивал свои шатры семь раз, трижды – под бомбежкой. Казенные грузы растрясались, заплечные мешки тощали, Шебельниченко, случалось, исчезал, растворялся в степной пыли, чтобы в каком-нибудь хуторе возникнуть облаченным в неотразимый реглан квартирмейстером или назваться полковым врачом и приступить к медицинскому осмотру молоденьких казачек, пожелавших работать официантками… Спасало старшину умение появляться как из-под земли по первому требованию начальника штаба Василия Михайловича, – с ключиками дефицитных размеров, с набором прокладочек, дюритов, ниппелей… Личное оружие, пистолет «ТТ» в руках механика авиационного, каковым по должности и призванию был старшина, также превращалось в слесарный инструмент: мушкой пистолета механик открывал самолетные замочки типа «дзус», а нарезным каналом ствола – тамбур железнодорожного вагона, если представлялся авиаторам случай ехать железкой… Бензозаправщиков в степи не было. Самолеты заправляли горючим вручную, ведрами и подойниками, и контакт с местным населением, по части которого денно и нощно трудился старшина, был важен.
Шебельниченко имел основания не спешить на встречу с Котлубанью и, напротив, горячо желать свидания с Нижне-Чирской.
– Гранат надо взять, – сказал старшина, поразмыслив: сопряженный с опасностью рейд сулил определенные промысловые выгоды. – Запас патронов к карабинам…
Загрузили «ЗИС».
Шебельниченко сел за руль рядом с Кулевым, помедлил, чего-то выжидая, припал к баранке, гикнул – рванул машину с места в карьер.
Приволжская степь, безлюдная и тревожная, лежала под звездами. В кромешной тьме то здесь, то там взлетали ракеты – беззвучные, яркие, призывные прочерки по черному своду. «Как бесы под покровом тьмы», – думал Кулев; зная умение немцев оглушать внезапностью, он ждал подвоха от каждого куста, от каждой балки. На развилках ночной дороги лейтенант оставлял кабину, уходил с картой вперед. Вдыхал, не замечая остроты и свежести, полевые ароматы, вслушивался, не дыша, в ночь, ехал дальше по степи, частично оставленной нашими войсками, но врагом еще не занятой.
Вдруг в стекло грузовика ударил сильный свет. Кулев с автоматом в руках кубарем вылетел из кабины.
– Ложись! – прогремело над ним. – Пристрелю! Он рухнул как подкошенный.
В тот же миг из кузова дружно ударили автоматы его механиков.
– Отставить! – взревел голос рядом с Кулевым. – Убьет же… Свои!
Фары, ослепившие лейтенанта, погасли, механики прекратили пальбу.
– Стоять! – гремел голос. – Скаты пробью!.. Стрельбу отставить, свои!
– Бьешь своих да еще грозишься? – надвигался на голос ничего не видящий Кулев.
– Огня не открывали!
– Да вас… как диверсантов!
– Огня не открывали! – твердил создатель инцидента. – Без техники нельзя вертаться, вы это можете понять? – Он хоронился, должно быть, на корточках, в тени своего кузова. – Дайте канистру бензина доехать, чтобы его черти с потрохами кушали, капитана Жерелина, ведь в расход пустит!..
Кулев при упоминании этой фамилии как-то поостыл. Распорядился нацедить канистру, спросил, хватит ли… Сбивчивые оправдания благодарных бойцов слушал рассеянно. Даже не переспросил, тот ли это Жерелин.
«Не зацепился», – думал Кулев, снова трясясь в кабине. Напряжение, державшее его с отъезда, после ночного эпизода спало.
Выдворенный из штаба Егошина, он снова попал в колею капитана Жерелина. Жерелин, Жерелин, дамский угодник, смертельно напуганный июлем сорок первого и умевший внушить начальству необходимость почтительного с ним обращения. Высшая в его устах похвала: «Эрудированный товарищ!» Если появлялось в газете сообщение об официальном обеде, «на котором присутствовали», Жерелин обязательно сопровождал его тонкими рассуждениями о «ножичках и вилочках, в которых запутаешься», случись туда попасть кому-нибудь из его слушателей или самому капитану… Война бросала Жерелина из Прибалтики в Керчь, а оттуда – под Харьков. Хлебнул с ним горюшка Кулев, пока дошел до Воронежа. «В сапог загнали!» «Под трибунал!.. Всех под трибунал!..»
«На каждого бывает свой Жерелин», – скорбно думал Кулев.
В школьные годы сколько копий в спорах об авиации было Степаном Кулевым поломано! В отличие от сверстников авиация в юные годы не кружила Степану головы. Летчики-герои совершали свои подвиги неведомо где и как, а венчались такой славой, вызывали такой барабанный бой в прессе, что как-то уже неловко становилось допытываться, в чем конкретно заслуга героя, какой поступок он совершил. «Воинский подвиг не может быть анонимным!» – заявлял Кулев, любитель независимых суждений, «Ты сухой рационалист, Степа, с тобой противно спорить!» – отвечали ему. «Не признаю героя, которого объявляют таковым по политическим соображениям!» – Кулев от собственной смелости бледнел. «А если диктует обстановка?» – «Достойного наградить, всенародно не объявлять!..»
На финскую он попал из ШМАСа стрелком-радистом.
Щелястая кабина в дюралевом хвосте бомбардировщика, где он горбатился над турелью или полулежал, промерзала в зимнем небе, как цистерна. Перед вылетом Степан надевал шерстяные носки, оборачивал их газетой, вправлял ноги в меховые унтята – не помогло: мороз проникал до мозга костей, дня не случалось без обморожений… Они отходили от Териок, когда тембр моторного гудения сбился, машина задрожала, задергалась, связь с летчиком оборвалась… Что стряслось, Кулев не понимал. Морозы стояли лютые, он боялся, что околеет, мысленно торопил командира к земле; вдруг потянуло горелой резиной – опасный запах, признак пожара. Безоглядный в решениях, он запаниковал, готов был сигануть с парашютом за борт… Тут лыжи коснулись снежного наста, через весь аэродром к самолету мчала полуторка, механики стояли в кузове с огнетушителями на изготовку… (Сорок минут тянул летчик на одном моторе, удерживая вытянутой, задубевшей ногой кратчайшее к дому направление, борясь за каждый метр высоты… Перед землей подбитый мотор вспыхнул, командир на пределе возможного сбил пламя, дотянул, сел.) Член Военного совета, наблюдавший их возвращение, оценил летчиков – в тот же день отличившийся экипаж был награжден. Пострадавшие от ожогов командир и штурман получали ордена в госпитале, сержанту Кулеву медаль «За отвагу» вручалась перед строем полка. Невредимый, ничем командиру не подсобивший, балласт на аварийном самолете, Кулев со строгим лицом внимал ораторам: «мужество»… «рискуя жизнью»… «гордимся»… «Начальству виднее, – думал Степан. – Все зависит от начальства…» Первый из ШМАСа удостоенный медали с выбитой на лицевой стороне аттестацией «За отвагу», он ради такого отличия готов был потерпеть. Стоял по стойке «смирно», слушая: «Степан Кулев – отважный воин…» Со временем сам привык к этому и других приучил, не зная в душе, отважный он или не отважный воин. Других приучать проще: народ доверчив. Доверчив, но и чуток, чутье на правду в нем неистребимо. С досадой, удивленно отмечал Кулев, что особняком ему держаться легче, чем сходиться с коллективом. Тоска одиночества, более ощутимая, чем страх смерти, настигающий бойца время от времени, – тоска одиночества поселилась в Кулеве, всегда была с ним. Горечь бытия смягчилась, сладость службы возросла, когда Степана – все за тот же вылет – произвели в младшие лейтенанты. О том, что «анонимный подвиг невозможен», Степан уже не заикался. На курсы штурманов, куда его послали после финской (в штурманах всегда нехватка, вечный дефицит), на курсах штурманов он с пеной у рта, как собственное мнение, отстаивал взгляды, не раздражавшие слуха: «Наш истребитель „И-16“, „ишак“ (на котором Степан не только не летал, которого близко не видел), превосходит немецкого „мессера“. Степана увлекала не истина, а открытость, широковещательность окрашенной патриотическим чувством позиции…