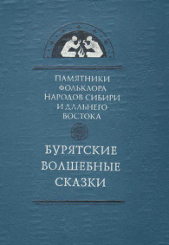Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
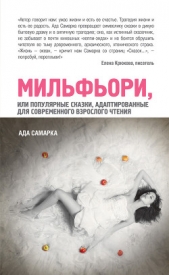
Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения читать книгу онлайн
«Сказка – быль, да в ней намек», – гласит народная пословица. Героиня блистательного дебютного романа Ады Самарки волею судьбы превращается в «больничную Шахерезаду»: день за днем, ночь за ночью она в палате реанимации, не зная усталости, рассказывает своему любимому супругу сказки, для каждой придумывая новый оттенок смысла и чувства.
И кажется, если Колобок спасется от Лисы, если Белоснежка проснется от поцелуя прекрасного принца, однажды и любимый человек выйдет из комы, снова станет жить полноценной жизнью…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Но дело молодое, холостяк, семью за собой везти не надо… – сказал пожилой полковник, завязывая папку.
– Надо – повез бы и семью, – серьезно ответил Карлевич.
Казалось, что нет ничего такого страшного, что он не видел, и нет на земле такого места, какое может быть хуже выпаленного войной Пешта, что не может быть ничего ужасней железнодорожных вагонов с готовыми к депортации, застрявшими на австрийской границе, по дороге в Маутхаузен, простоявшими так пять дней… запечатанными.
Но эти таежные места встретили его вдруг какой-то потусторонней прохладой, голым раздольем, где взгляд тревожно мечется по уходящим за горизонт зеленым сопкам и где, оказывается, есть нечто куда страшнее понятного, живого врага – сама природа стоит настолько близко, что чувствуешь себя меньше отщербленной песчинки. Вступаешь в жизненный круг, в котором нет ничего лишнего, ничего вообще, кроме недвижимого, простирающегося со всех сторон величия жизни и совершенно такого же, отчужденного, величественного равнодушия смерти. Нетронутое человеком однообразие берет в кольцо, где усилия одного, двух, десяти, ста человек со всеми их личными достижениями, историями и убеждениями ничего не значат. Под этим повернутым под непривычным углом желтоватым небом все нажитое одним человеком – опыт, мудрость, сноровка – не имеют никакого смысла, никакой цены. В любой из точек – тут, в пятистах километрах далее, даже в тысяче – будут те же сопки, то же небо, то же равнодушие.
Вдоль рельсов валялись трупы, и никто их не убирал. Освободившиеся зэки, урки на вечном поселении играли в карты на чужие жизни – проигравший должен был убить, скажем, третьего, сошедшего с поезда. И убивал… выслеживал и убивал! Фашисты убивали хотя бы из какой-то пусть чудовищной, но поддающейся обоснованию логики – то же, что творилось иногда в этих местах, просто не поддавалось пониманию.
Карлевич не любил лес. Пытался уяснить его примитивную жизненную логику с точки зрения человеческого выживания, какого-то мало-мальского приспособления – и не находил ничего путного. Они шли по лесу двое суток. Сорок восемь часов будто по одному и тому же месту – шагом, верхом на лошадях, переступая через поросшие мхом булыжники, уклоняясь от лезущих в лицо веток.
Проводник шел пешком – так ему было проще ориентироваться.
Лошади везли разобранный противотанковый пулемет, который в итоге так и не собрали.
Карлевич появился на этой поляне верхом на белом коне, в полевой военной форме и в плаще, скрывающем погоны и левую руку (он был левшой), сжимающую снятый с предохранителя пистолет.
Возле покосившейся черной избы стоял топчан, который Карлевич сперва принял за телегу без колес. На топчане лежала, сложив руки на груди, девушка – совсем юная, с черными распущенными волосами.
Скрипнула дверь, и на свет вышел, жмурясь, шатаясь то ли от болезни, то ли спьяну – заросший, грязный, голый по пояс мужик. Он спокойно, долго, словно не понимая, смотрел на лошадь и на Карлевича.
На другом конце поляны хрустнуло и зашелестело – появился зам Карлевича, на гнедом жеребце, показывающий одним лишь взглядом, что пока все спокойно.
– Это что за Белоснежка? – неожиданно спросил Карлевич.
Мужик и не пытался ответить, а неожиданно сел на землю в изголовье топчана и, взяв девушку за руку, стал целовать ее, пачкая сажей со своих щек, и выть, слюнявя.
С хрустом и треском из лесу вышли несколько человек в военной форме, под руки ведущие Андрея Злова. Безумно улыбаясь разбитым ртом, он нагло, жарко, с вызовом смотрел на Карлевича.
Чуть позже они спокойно сидели в избе и при свете лучины договаривались о дальнейших действиях. Злов и команда получили на руки выправленные документы – всего-то и делов, вместо умерших, которым до освобождения оставалось меньше года. Был список городов, где они не могли селиться, но в остальном имелись все предпосылки для жизни. У Карлевича же и его людей (неспроста он взял с собой лишь троих самых верных) появились камни.
И точно как девять месяцев назад, почти в ста километрах отсюда, на заброшенной дороге, где старый палач стрелял вслед убегающей Бузе, Карлевич теперь стрелял в бесконечную лесную чащу, куда семеро, высоко подпрыгивая, бросились врассыпную и были уже окончательно проглочены ожидающей впереди неизвестностью.
Карлевич посадил Бузю перед собой, крепко обхватив под грудью. Ехал чуть откинувшись в седле, приняв на грудь ее мягкое, теплое тело. Комендантскую дочь он узнал сразу же – хотя видел ее лишь раз, мельком. Столкнулись в кабинете ее отца, перед картой, там было узко, ему пришлось втянуть живот и не дышать, пока она, смущаясь, пробиралась к выходу. И была она сейчас еще краше, чем тогда. Несмотря на то, что на почерневших от грязи и исцарапанных ногах, без носков, было надето по разному мужскому ботинку, несмотря на юбку, сооруженную из какого-то мешка, и истлевшую гимнастерку – она была прекрасна. Ее запрокинутая голова лежала у него на плече, носом и щекой он придерживал ее, вдыхая лесной, ореховый аромат ее волос.
Бузю положили в госпиталь в одном из тех поселков, что были отмечены на отцовской карте бледными звездочками. Молодые врачи и посетители старались лишний раз пройтись под стеклянной дверью ее палаты, чтобы просто полюбоваться. Часто на прикроватной тумбочке замечали фуражку, принадлежащую Карлевичу. Сам он предпочитал подолгу стоять на крыльце, спиной к завешенному белой больничной занавеской окну, покуривая папиросу и глядя с умиротворением на небо и заслоняющие его, мерно колышущиеся макушки деревьев.
В те же дни, когда буйное короткое таежное лето уже отчетливо трубило о своем приближении, наливались соком, тяжелея, бутоны и почки – Ритка привела в каптерку с медвежьей шкурой нового лесоруба. Он был мрачен и строптив, но себе она в тот день казалась наконец такой, какой хотелось ей быть всю жизнь – умной, опытной, сильной и одновременно подкупающе женственной, с тонкими запястьями, белыми ключицами, блестящими волнистыми волосами, растрепанными, как у девушки. Автомобильное зеркало смотрело на нее с половиц ее глазами с поволокой, губы были снова как спелые вишни, и в жарком сумраке очертания грудей походили на сочные, ароматные спелые груши. Ритке хотелось быть веселой и беззаботной, чуть глуповатой, – как в юности.
Неожиданно лесоруб как-то грубо толкнул ее, Ритка ойкнула, и лезвие ножа, проскочив ровно между ребрами, уверенно, ловко, профессионально мягко вошло ей прямо в сердце. Мужик отпрянул, выжидающе стал у дверей, вытягивая из Риткиной кобуры пистолет, и Ритка, голая, с совсем тонкой алой ленточкой крови, с этим последним украшением на своем роскошном теле, сделала навстречу ему несколько шагов, совершенно растерянная, ни капли не злая, с круглыми, как у девочки, глазами.
– Чертова холе… – поморщилась, упала на колени и громко, страшно-гулко стукнувшись головой, растянулась навзничь на полу. Рядом лежало, покачиваясь, автомобильное зеркало, все в серых ветвистых трещинах.
В начале июня Бузя и Карлевич ехали в Киев, она – к известному профессору, он – в отпуск, домой. Бузя к тому времени уже немного ходила, могла жевать и глотать, но сознание в полной мере не возвращалось к ней – она никого не узнавала и большую часть времени находилась в беспамятстве.
На третий день пути поезд встал с самого утра и стоял так много часов. Сообщили, что был оползень, засыпало пути.
Прямо вдоль рельсов тянулся узкий каменистый берег с редкими голубыми и желтыми цветами, и за ним, ныряя за серый горизонт в легкой дымке, простиралась ровная, как зеркало, водная гладь. Широким изгибом берег уходил на коричневатый в дымке мыс, и, повторяя этот изгиб, выстроились коричневатые в послеобеденном свете, пыльные вагоны с коптящей паровозной трубой, и чуть дальше, сквозь зелень, бликовали таким же изгибом рельсовые пути. По насыпи вдоль вагонов прохаживались люди. А в воде, которой тут было больше, чем неба, больше, чем камня и зелени, отражались замысловатые облачные зигзаги, как турецкие огурцы с бабкиного платка. Степь и болота, воздух и вода, север и юг сходились в этом месте воедино.