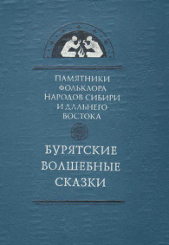Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
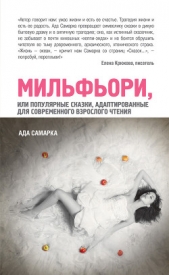
Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения читать книгу онлайн
«Сказка – быль, да в ней намек», – гласит народная пословица. Героиня блистательного дебютного романа Ады Самарки волею судьбы превращается в «больничную Шахерезаду»: день за днем, ночь за ночью она в палате реанимации, не зная усталости, рассказывает своему любимому супругу сказки, для каждой придумывая новый оттенок смысла и чувства.
И кажется, если Колобок спасется от Лисы, если Белоснежка проснется от поцелуя прекрасного принца, однажды и любимый человек выйдет из комы, снова станет жить полноценной жизнью…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Белла родилась в пыльном сонном поселке городского типа на юго-востоке Украины, где все говорят по-русски. Там та же степь, те же кочки, только трава чуть выше и зеленее, а земля вдоль дороги, и осадок в банке с водой из-под крана, и пыль на мокрой тряпке буровато-красного цвета. Гуляя по поселковым улицам, толком не разберешь, где кончается территория завода – разнообразные трубы, сходясь, перекидываясь через дорогу, ныряя в густые пыльные заросли и кубические бетонные руины долгостроев, тянутся, толкаясь коленями, обмотанными фольгированным утеплителем, даже за памятником Ленину на площади у горсовета. В центре поселка стояли как-то криво разбросанные три длинные панельные пятиэтажки – в одной на первом этаже был гастроном и винный отдел, переоборудованный со временем в бар с игровыми автоматами, во второй – сберкасса, парикмахерская и галантерейная лавка, а в третьей весь первый этаж занимала библиотека. Именно в этом доме жила Беллочка, и ее фанатичное, редкое в наше время увлечение книгами можно объяснить банальным фактом прямой географической доступности всегда пустынного, прохладного, с тяжелыми занавесками зала, куда ее, лишенную материнской опеки, приводил после школы кто-то из чужих родителей, и где она, коротая часы в ожидании отца с работы, перечитывала все, что предлагал стеллаж с книгами для среднего и старшего школьного возраста. Библиотекарша сперва нехотя, а потом все с большим интересом стала приобщать Беллочку к миру классической литературы и вдруг с недоумением обнаружила, что эта девочка чутко откликается на все глубинные и совершенно взрослые переживания персонажей Достоевского и Толстого и более того – различные томления полового характера в произведениях Ибсена и Уайльда. О чем там речь, библиотекарша и сама толком позабыла, но, извлекая том за томом с разных взрослых полок, задавала девочке наводящие вопросы, продолжая подозревать ее в некотором читательском мошенничестве, она получала всегда исчерпывающие, трактованные с детской непосредственностью ответы, словно воскрешающие тени чего-то давно заученного и забытого под грузом лет.
– Ну что ж, Беллочка, – говорила она, немного хорохорясь и от этого фальшиво, – я так думаю, что «Раковый корпус» читать тебе пока еще рано… – И выжидающе замолкала, оставив руку у книжного корешка.
Девочка реагировала медленно, словно выныривая из книжных глубин, словно не совсем расслышав вопрос – хлопая ресницами и растерянно улыбаясь, отвечала, глядя в глаза и при этом не переставая видеть что-то совсем другое:
– Как вы сказали? Раковый что? Я возьму. Я там в читальном брала «Тропик Рака». Мне понравилось.
Так же сонно, растерянно, неохотно, словно не до конца вынырнув из своего книжного марева, Беллочка ездила поступать в Луганский педагогический вуз и по какому-то нелепому недоразумению, по курьезному недосмотру – не оказалась в числе поступивших. И так же сонно, с отрешенной беспечностью вернулась домой и первым делом наведалась в читальный зал – узнать, не привезли ли чего нового.
За всем этим книжным летаргическим сном, непрекращающимся погружением совсем не оставалось места для тех чудесных, дух захватывающих вещей, сопровождающих переход из детства в девичество и расцвет дальнейшей женственности. Если бы Беллочка не была хороша собой, то данный расклад можно было бы назвать по-настоящему счастливым – ведь так редко случается, чтобы юной девице было до такой степени наплевать на свое лицо, состояние кожи, плоскость живота, гладкость и упругость бедер, укомплектованность туалетной полочки и гардероба. Беллочкина внешность, лишенная тщеславного, прагматичного и смекалистого управляющего элемента в мозгу, какой-то особой извилины, имеющейся у всех красивых женщин, приносила ей с каждым годом все больше страданий.
В 16 лет она вполне сошла бы за заморскую кинодиву – с изумительно гармоничными преувеличениями в нужных местах – бюст был чуть пышнее, чем следовало бы, бедра – чуть округлее, шея и ноги – чуть длиннее, а талия, щиколотки и запястья – неправдоподобно тоньше. И губы, пухлые, почти воспаленные, сложенные в сонную, блуждающую, неуловимую улыбку, а еще миндалевидные глаза янтарного цвета, с четкими, хоть и не подкрашиваемыми никогда ресницами, довершали киношно-распутный образ. Взгляд этих чудных глаз был полон томления и предвкушения перманентного блаженства от осязаемой доступности огромного, как вторая вселенная, мира там внизу, на книжных полках. Словом, большего несоответствия и вообразить нельзя – за порочной, слащавой, кисельно-тягучей неторопливостью движений, в будоражащем чистом румянце на белых, без единого прыщика щеках крылась никакая не ранняя потайная жизнь, а сплошное книжное недоразумение. Конечно, начитавшись всяких «Ям», «Любовников леди Чаттерлей», «Лолит», перелопатив горы современного любовного книжного мусора в цветастых обложках (дающего, кстати, наиболее обширные знания в сфере межполовых отношений), Белла имела какое-то подсознательное чутье, парадоксально обращенное вовне – рядом с ней существа мужского пола ощущали, до дрожи в животе, всю тяжесть пережитых, прочувствованных, понятых ею любовных драм, что добавляло рокового магнетизма, но сама она, в те же 16, несмотря на бесчисленный чужой любовный опыт, оставалась наивной и глупой настолько, что не понимала самых примитивных мужских хитростей. Любовная драма казалась Беллочке чем-то столь же для нее невозможным, как танец на балу с Андреем Болконским.
Так, возвращаясь однажды из школы, в выпускном классе, она стала жертвой и по совместительству возлюбленной местного бандита и хулигана Гошки-Цапа.
Под каким-то феерически неправдоподобным предлогом он заманил ее домой к приятелю, чьи родители были в отъезде, и там, приняв ее скупые, тихие отпирания за продолжение игры – нарвался вдруг на нечто отправившее его в продолжительный ступор, за время которого Белла, чуть всхлипывая, успела подобрать трусики и застегнуть блузку.
– Так ты чо, в натуре, целка, что ли? – задумчиво спросил Гошка-Цап, и потом, вернувшись со стаканом воды, шикнул на нетерпеливо зудящего ширинкой приятеля, что кина не будет и что тому, кто тронет эту, наступит п…ц, от него лично.
Белла наблюдала за всем из угла комнаты с рассеянным и немного скучающим видом, держа в опущенных руках по босоножке.
– Кто, эта? – спросил приятель, собираясь пролезть под выставленной шлагбаумом рукой, не переставая играть с ширинкой и глядя Белле прямо в глаза, – да она же со всеми уже… Ты глянь на ее глаза, ыыыыы, блядюга какая…
И вдруг заскулил и забулькал, заваливаясь куда-то в коридор, держась за живот.
Не зная толком, куда девать руки, Гошка-Цап пошел к Белле, приветливо улыбаясь, вытерев ладони о штаны, тяжело обнял и, дружески стукнув ее лбом в висок, сказал:
– Ты, типа, прости, что так вышло, и то, се, – и потом совсем другим голосом, глядя в дверной проем, – а ну лежааааать, кому сказал, падла б…ть н…й.
Белла улыбнулась и кивнула. На вопрос – хочет ли, чтобы ее проводили, ответила: «нет, не стоит», и в самой постановке фразы ощущалось что-то неоднозначное, бросившее на их расставание тень некоторой туманной незавершенности.
То, как Гошка-Цап стал относиться к Белле, было глубоко неприятно им обоим. Хулигану и начинающему бандиту делалось стыдно от своих чувств, обнаживших какой-то уязвимый нежный пласт в его душевной организации – Гошка-Цап, если бы мог, пел бы ей песни под балконом и возил бы на мотоцикле, осыпая букетами из полевых ромашек и цикория, сдувал бы невесомую бурую пыль из нежных мест у нее за воротником и над ухом. Белла смотрела на него с мудрым состраданием, как жалеют блаженных и убогих, считала его стихийным недоразумением, Шариковым, совсем больным, непригодным для открытой ненависти. От него можно было только удирать и реже попадаться на глаза.
Двух месяцев слежки Гошке-Цапу хватило с лихвой, чтобы убедиться в беспочвенности обвинений своих друзей касательно распутного образа жизни, ведомого Беллой. На таких просто женятся, думал он.