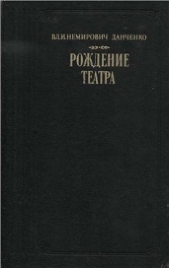Театральное наследие. Том 1

Театральное наследие. Том 1 читать книгу онлайн
Книги являются пособием по изучению литературно-творческого наследия Владимира Ивановича Немировича-Данченко, выдающегося режиссера и учителя сцены, соратника К.С.Станиславского, создавшего вместе с ним мировую сцену МХАТ.
Том 1. Статьи, речи, беседы, письма
Том 2. Избранные письма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
{318} Прежде (может быть, это относится только ко мне, но думаю, что и ко многим из тех, кто со мной работал) мы не так глубоко задумывались над главной идеей пьесы, над идейным стержнем ее; мы больше действовали интуитивно и шли туда, куда влекли мечты и симпатии актерских и режиссерских индивидуальностей. Это было скорее угадывание Чехова, чем глубокий анализ. Спектакль возникал, как стихийно-великолепное отражение Чехова, а не глубоко сознательно. Но мы жили чеховскими произведениями, они нам были бесконечно близки, дороги. Наши души очень ярко реагировали на все те чувства, переживания, настроения, которыми полны произведения Чехова, драматургические и беллетристические.
Сегодняшнее отношение к пьесе Чехова, отношение сегодняшних актеров к чеховским образам, то, как сегодня будет звучать и слушаться чеховское слово, — все это вместе получило для нас наименование: проблема чеховского спектакля в современном Художественном театре. Мы не случайно много лет не ставили Чехова, отказываясь от простого возобновления его пьес. Это очень сложно, это нельзя было разрешить сразу, одним взмахом. В это нужно было вникнуть, надо было это прожить, пережить настолько, чтобы потом уже увидеть перед собою ясный путь.
«Три сестры» — это был наш лучший чеховский спектакль, в особенности по исключительно удачному составу исполнителей. Может быть, «Вишневый сад» как-то глубже и понятнее создавал и доносил настроение чеховского спектакля. Но «Три сестры» еще ярче блистали великолепным ансамблем и вообще считались одним из вершинных достижений Художественного театра. Тем труднее, конечно, подходить к нему вновь[224].
Пьеса писалась Чеховым так, словно он предназначал роли определенным исполнителям. Это вовсе не было плохо, — и Островский писал для Садовских. Чехов, как великолепный театральный человек, с изумительным чутьем угадывал индивидуальности актеров. И применялся к этим индивидуальностям, думая о них в главных ролях своей пьесы. Но насколько нам придется теперь держаться этих исполнительских образцов? Мне кажется, тут не будет вопроса, хотя бы по одному тому, что большинство из вас не видело этих исполнителей или вы были тогда еще так юны, что не могли запомнить образы в деталях. Самое трудное положение, я бы сказал, здесь мое. Потому что я жил чеховскими образами, спектаклями Чехова до самой его смерти и еще много лет спустя продолжал искать Чехова с отдельными исполнителями. Может случиться, что меня потянет в какую-то такую атмосферу актерских переживаний, которые вам совсем несвойственны. Поэтому я все время {319} начеку: как бы мне вас не сбить. Но я верю своему внутреннему контролю и верю вам, вашему чутью, вашему нежеланию пойти по проторенным путям. Я всегда говорил: гибель театральных традиций заключается в том, что эти традиции превращаются в простую копию; что Малый театр, история которого знакома мне больше чем за шестьдесят лет, часто снижался в своем искусстве именно потому, что низводил свои прекрасные традиции до копирования.
Наша задача должна быть простая и, так сказать, художественно-честная. Мы должны отнестись к этой пьесе, как к новой, со всей свежестью нашего художественного подхода к произведению. Сказать с уверенностью, что поле для работы прекрасно расчищено, что вы полно охватываете всю проблему и создадите спектакль, который будет если не эпохой, то новым этапом в нашем театре, — сказать это с уверенностью нельзя.
Может быть, не нам, а какому-то совсем новому, еще неведомому нам коллективу удастся сделать в спектакле Чехова нечто неожиданное, смелое, верное, чего мы и угадать не можем. Мы должны сделать то, что мы нашими силами — лучшими силами, собранными в этой работе, — сделать можем, а что из этого выйдет — посмотрим. Нам кажется, что если мы можем поставить заново чеховский спектакль, то теперь, может быть, скорее, чем когда-либо, и, может быть, теперь лучше, чем когда-либо позднее.
* * *
… И вот, я ставлю первый вопрос: в чем зерно спектакля, какая идея его пронизывает? Я сейчас попробую сказать, как я понимаю зерно «Трех сестер», но отнюдь не навязывая вам это как единственно верное определение. Может быть, постепенно, если не сейчас, начнет выясняться, будет напрашиваться и нечто другое.
Когда я вдумываюсь, что вызывало такую тоску чеховского пера и рядом с этим такую устремленность к радости жизни, моя мысль всегда толкается вот в какую область: мечта, мечтатели, мечта и действительность; и — тоска: тоска по лучшей жизни. И еще нечто очень важное, что создает драматическую коллизию, — это чувство долга. Даже долга, как необходимости жить. Вот где нужно искать зерно.
Хорошие, интеллигентные люди. Прекрасные «три сестры» и еще несколько великолепных людей, их окружающих. И живут они какими-то стремлениями, неясными стремлениями к неясному идеалу жизни. Но в них очевидно одно — желание {320} оторваться от той жизни, которая их сейчас окружает, глубокая и мучительная неудовлетворенность действительностью, несущей в себе пошлость, самую определенную, осязаемую всюду кругом, — пошлость не в смысле подлости (надо взять глубже), а в смысле бескрылости, отсутствия мечты, исключительной приверженности тому, что крепко, прочно на земле: что прочно, то и свято. Эта действительность так тускла, настолько лишена глубоких радостей, которые могли бы наполнить человека благородным порывом, что и труд в этой жизни не приносит удовлетворения. Жизнь не сделала этот труд таким, каким его сделал через пятнадцать-двадцать лет наш Союз, где нет надобности уходить в мечтания, в тоску о лучшем. Труд без радости, жизнь без удовлетворения, жалкая ползучая действительность каждого дня создает в этом провинциальном городе «человеков в футляре», по определению того же Чехова. А лучших, еще не заснувших, не погрязших, охватывает мечта. Вот как у трех сестер с их «В Москву! В Москву!» — как будто Москва — это какая-то Мекка мусульман, где все чудесно, куда только и стоит стремиться.
Да, они работают: и Ольга, и Ирина, и Вершинин. Но любить свою работу они не могут, хоть иногда и стараются всеми силами, — что делать, если она не дает полной радости, не увлекает, а только физически надламывает, притупляет — до головной боли, до отчаяния, до настойчивой потребности отвлечься, думать о другом, мечтать и тосковать о лучшей жизни, не похожей на эту. Таков полковник Вершинин, интересный, обаятельный человек, который, наверно, отлично выполняет свой военный долг и относится к своей работе как к долгу перед «царем и отечеством», перед женой, перед детьми и мечтает о том, что будет через двести-триста лет, о какой-то жизни в цветении.
Или Андрей, с его глубоким душевным расколом. В третьем действии он заставляет себя поверить, что он трудится, что он «член управы», и даже горячо говорит об этом с сестрами, а потом — подавленный, обиженный несбывшейся мечтой — вдруг срывается и кончает свой монолог рыданием.
Или Ирина — единственная, у которой еще нет этой тоски, есть только мечтания юности без малейшей уступки действительности: не потому, что у нее есть своя действительная, увлекающая жизнь, а потому, что она еще не почуяла всей скуки и ужаса морального и физического окружения. Она еще вся — несущаяся куда-то белая птица. И поэтому в ней больше всего будет чувствоваться деградация. Она будет работать, потом работа, нудная и утомительная, перестанет ее удовлетворять, и кончится полной катастрофой…
{321} Маша кончилась… она живет так, словно похоронила самые заветные мечты, тоскует по чему-то похороненному. Думала, выйдет замуж, и настанет что-то хорошее… Оказалась женой человека в футляре, очень доброго, но дальше своего узкого круга ничего не видящего и ни о чем не мечтающего. «Самый добрый, но не самый умный…» Латинские изречения, подкрепляющие прописные истины, инспектор, жены учителей, вульгарные, глупые разговоры… Эта не найдет никакого удовлетворения. И у нее свой долг — она замужем. Придет когда-нибудь время, момент, который все это разорвет, но разойтись сейчас с Кулыгиным — да как же это: шум, пересуды, неприлично! И в голову это не приходит. И уже никогда не осуществится радость неясной мечты, воплощенной в каком-то лучшем мире.