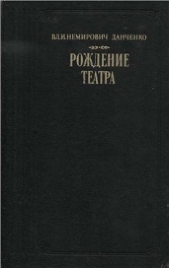Театральное наследие. Том 1

Театральное наследие. Том 1 читать книгу онлайн
Книги являются пособием по изучению литературно-творческого наследия Владимира Ивановича Немировича-Данченко, выдающегося режиссера и учителя сцены, соратника К.С.Станиславского, создавшего вместе с ним мировую сцену МХАТ.
Том 1. Статьи, речи, беседы, письма
Том 2. Избранные письма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
{208} Часто удачно найденное становилось традиционным штампом, укрепляясь в других театрах. Если во время песни две‑три девушки начинали смеяться и это утвердил режиссер, то уже во всех театрах во время песни обязательно две девушки смеются.
Если говорить об истории штампов, то надо вспомнить, что прежде на сцене были просто непосредственные, сильные живые люди. Потом стало вырабатываться какое-то театральное искусство, и эти люди передавали свое искусство, потом пошли школы, которые именно и занимались прививкой штампов: любовь выражается так-то, смех — так-то… Надо учиться смеху, делать смех, слезы… Найденные приспособления заштамповывались, переходили из поколения в поколение, вырабатывались в искусство. Константин Сергеевич отлично говорил, что если любовник драматический — он становится на одно колено, если комический — он хлопается на оба. (Смех.) Это шло от школы, этому учили специально. Поэтому так и знали, что такая-то вот актриса играет мать «вообще», любовницу «вообще», сварливую старуху «вообще», гнев «вообще», ревность «вообще», а не весь комплекс, который складывается вокруг этого чувства в данной пьесе, в данной роли.
Я помню, давно-давно, еще до Художественного театра, знаменитая русская актриса Ермолова играла в какой-то пьесе мать, страдающую оттого, что ее сын неудачно женился. В другой пьесе она страдала оттого, что ее бросил любовник. Обаятельная актриса с заразительными нервами, она имела большой успех в обеих ролях. А я говорил ей: «Какая же разница в ваших чувствах, когда вы играете мать, страдающую за сына, жена которого изменяет ему, и когда вы играете брошенную любовницу?» Кажется, ничего похожего? А, в сущности, получалась одна и та же драма, потому что актриса страдала «вообще». Это случалось и с самыми крупными актрисами — это «вообще». Вот что приводит к штампам. Я говорю, что штамп часто всасывается с молоком матери. У нас в театре был такой случай, когда мы ставили «Ревизора». Мы тогда очень любили то, что называется теперь типажом. Мы любили, чтобы все было натуралистически верно, в эту сторону у нас был сильный уклон. Для роли Мишки мы взяли мальчика, который никогда в жизни на сцене не играл, служил у нас в конторе и показался подходящим по типажу. Привели его на репетицию. У него там слова: «А что, дяденька…» и т. д. Начал — и сразу заиграл: стал почесывать затылок… Штамп! Откуда это?
Старые театры так переполнены этими штампами, что они стали невыносимы. Можно привести целый ряд примеров. Яне очень давно слышал одного крупного актера, чуть ли не народного. {209} Он читал монолог Чацкого из четвертого действия. Хороший актер, на это было невыносимое зрелище! Каждое слово, каждая фраза были сыграны.
В нашем театре мы нашли то, что может помочь выбраться из всяких штампов. Вы знаете, что наша задача, наше искусство — ничего не играть. Это первая заповедь наша. Ничего не играть: не играть образа, не играть слов, не играть чувств, не играть положения, драматического или комического, не играть смеха, не играть плача — ничего не играть. Тогда легче не попасть на штампы. Актер, ищущий, что такое живое чувство, скорей не попадет на штамп. А как только начинает играть не нажитое репетициями, не привыкнув посылать свою волю куда следует, на помощь является штамп. В особенности, если актер опытный.
Работать с хорошими, опытными актерами-мастерами — огромная радость, в том смысле, что у них большая фантазия при большом опыте. Они не только идут на помощь режиссеру, но и тянут режиссера на настоящую творческую взволнованность. Конечно, с ними интереснее работать. И результаты лучше. А с другой стороны, с ними труднее искать новое в пьесе, новых людей и положения, чем с молодежью, потому что они легче попадают на штампы — и не заметишь их. А у вас еще нет таких штампов.
Часто певец с хорошим голосом говорит, что он в исполнение роли вводит не только голос, но к тому же и «игру», — значит, умеет нажимать на штампы. Когда драматический актер играет, как певец, — это ужасно. Ведь там, в опере, все построено на игре. Там играют не только каждый образ, но и каждое движение. Если герой — так уж такой герой!., если драматическая героиня, то уж мадонна сразу!., если комик, то непременно рыжая голова и усы!
До Художественного театра штампы считались просто необходимыми. Никому и в голову не приходило, что это вредное явление. До Художественного театра нигде не велась борьба со штампами. Большие актеры создавали новые талантливые приспособления, которые потом включались в искусство штампов. Эти новые приемы бывали предметом гордости провинциальных актеров, которые заимствовали их. Например, знаменитый актер Росси приезжает на гастроли. И, сам по себе великолепный актер, Иванов-Козельский бросает свои гастроли, приезжает в Москву, смотрит здесь его спектакли, заимствует разные приемы и вносит их в свои роли. Например, Гамлет в третьем действии, когда идет «Мышеловка», держит колоду карт веером и на словах: «Оленя ранили стрелой» бросает эту колоду карт.
{210} Мне кажется, что штампы актера — это то же самое, что штампы в поэзии, в беллетристике. Но в то же время я думаю, что совсем избегнуть их очень трудно.
Вы на репетициях часто слышите, как я говорю: «Начались штампы Художественного театра!..» Пусть вам не покажется, что я говорю против системы Станиславского, это совершенно неверно. Я смотрел «Горячее сердце» и «Женитьбу Фигаро», там немало штампов, но темп обоих этих спектаклей — это то, к чему и я стремлюсь. Я против затяжных пауз. И Константин Сергеевич часто на репетициях говорил: «Пока вы от этой фразы перейдете к той — можно пойти позавтракать и вернуться!» Я и говорю: у нас сначала найдут «объект»; посмотрят ему в глаза; увидят его взгляд; проверят на соседе — и потом только скажут: «Да, правда, я здоров!» или: «Благодарю вас!» Это штамп Художественного театра. А когда он распространялся на другие театры, то это становилось еще несноснее, утрированнее, как всякое подражание.
Когда я в последнее время думаю о молодежи, то меня беспокоят два явления. Одно — это слово, которое у нас в большом пренебрежении. Второе, — может быть, я ошибаюсь, но у меня есть боязнь, что вы недостаточно смело раскрываетесь. Вам в этом мало помогают. У меня есть боязнь, что, начиная с таких-то и таких-то школьных приемов, делая шаг вперед на основании полученных уроков, стараясь избегать ошибок (подчеркиваю это), вы все время держите ваши сценические данные взаперти.
Если бы вы видели, как в прежнее время складывались актеры, то, вероятно, ахнули бы. Антрепренер брал актера по внешним данным: «Красивый молодой человек, да еще с “гардеробчиком” — возьму!» (Смех.) А если потом оказывалось, что у этого актера и нерв заразительный, что он прочел горячо монолог и публика взволновалась, плакала, аплодировала, то такой актер быстро шел в гору. Как он играл — бог его знает! Ведь роль готовили в два дня, а то и в один день, с двух-трех репетиций. Иной раз можно было слышать горделивое: «Подумайте, у нас были три репетиции — громадное дело!» Актер изо всех сил старался быть похожим на какого-нибудь известного актера, например, на Горева, Иванова-Козельского, Ленского, Южина, подражал театральным образцам. Начинал с подражания. При императорском театре была школа — балетная и драматическая. Тогда в первую очередь принимали в балет, а если ученик или ученица оказывались неспособными, то отправляли в драму. Это — как правило. Девочки, ученицы школы, двенадцати-тринадцати лет ходили смотреть спектакли (у них была специальная ложа). Приезжала на гастроли {211} Рашель… И после спектакля девочки у себя в дортуаре играли «Рашель», копировали ее. Я сам в тринадцать лет, закутавшись в простыню, играл Гамлета перед моими несчастными близкими. (Смех.)
Конечно, начиналось с подражания. Но вот что замечательно. (То, что я сейчас скажу, может показаться горячим приверженцам и правоверам Художественного театра величайшей ересью. Однако я выскажу эту «ересь»…) Я вспоминаю свою юность, когда еще не думал ни о каком Художественном театре, не думал ни о каких штампах, когда еще не было никаких разговоров о борьбе с ними. Даже слова этого не было в театральном лексиконе. Я никогда не играл на сцене, помимо того, что в тринадцать лет читал монологи Гамлета. Студентом второго курса университета я приехал в Тифлис и участвовал в любительском спектакле в пользу кончающих гимназистов[167]. Так как я был фатоватым юношей, даже пенсне почему-то носил, хотя до сих пор обладаю великолепным зрением, то я, конечно, получил роль любовника. Помню очень хорошо одно: когда мне парикмахер наклеивал усы, этакие небольшие усики, я все просил усы погуще и успокоился лишь тогда, когда он наклеил мне толстые-претолстые усы. Я должен был играть молодого человека, соблазняющего девушку. Играл начало спектакля плохо: в антрактах все проходили как-то мимо меня… От этого во мне закипала горечь.