Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков
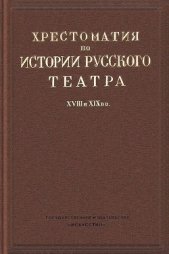
Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков читать книгу онлайн
«„Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков“ представляет собой то первичное учебное пособие, к которому, несомненно, прибегнет любой читатель, будь то учащийся театральной школы или же актер, желающий заняться изучением истории своего искусства.
Основное назначение хрестоматии — дать материал, который выходит за рамки общих учебников по истории русского театра. Следовательно, эту книгу надо рассматривать как дополнение к учебнику, поэтому в ней нет обычных комментариев и примечаний.
Хрестоматия с интересом будет прочитана и широкими кругами читателей. Она познакомит их с яркими событиями, с выдающимися деятелями истории русского сценического искусства. Обо всем этом рассказывают современники-очевидцы живым и образным языком.»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Второе действие открывается удивительно жизненною сценою между двумя дворянами: предводитель Золотилов, «цветущий мужчина с несколькими ленточками в петлице и с множеством брелоков на часах» (шик 40—50-х годов) и помещик Чеглов-Соковин, «худой и изнуренный, в толстом байковом сюртуке». (Заметьте, как все — от характеров до фамилий, от языка до мелочей костюма — у Писемского характерно.) Явление 2-е начинается входом бурмистра. «Я-с это». В это же время Лизавета (Стрепетова) выглядывает из дверей несколько раз, прежде чем решается войти. Этот jeu de scène в тексте не указан. При входе Лизаветы в ремарке автора сказано: «Чеглов (дотрагиваясь до ее плеча)», — подробность эта опускается. Лизавета, тихо и робко озираясь и, видимо, дичась незнакомого ей человека, Золотилова, садится боком на край стула. Все движения ее тихие. Интонация нараспев: о̀ченно о̀пасно — указана самим Писемским, у которого, по рассказам г. Писарева, был необыкновенно тонкий слух, различавший малейшие оттенки речи. В фразе: «а он теперь, коли против какого человека гнев имеет, так он у него, как крапива садовая, с каждым часом и днем растет, да пуще жжется» — ударения, с некоторою растянутостью делаются на словах, напечатанных курсивом. Эти ударения определяют и темп речи. В то время, когда говорят другие лица, в этой сцене Лизавета не спускает глаз с Чеглова, и слабая улыбка мелькает у нее иногда, оттеняя любовное к нему отношение. Слезы начинают звенеть в ее голосе со слов «а по́што мы ему». У автора она «начинает плакать» позже, со слов «какая… мужнина жена». Тем же тоном, со слезами, сдавливающими горло и вибрирующими в голосе, говорит Лизавета: «Ой, сударь, до глаз ли теперь…» до конца тирады. Чеглов не подходит к ней, как сказано в ремарке, а сидит около нее. На словах: «Может, как вы еще молоденьким сюда-то приезжали, так я заглядывалась и засматривалась на вас, и сколь много теперь всем сердцем своим пристрастна к вам и жалею вас, сказать того не могу» — тон изменяется, лицо озарено улыбкой, слышится нежная страстная нотка; на словах же: «не желаю… не хочу!» — голос Лизаветы звучит сухо, решительно, и энергическим жестом она запахивает платок. «Поиспужается маненько» — опять оттенок, полу-улыбка, мимолетная надежда, что авось устроится дело. Наиболее важный вариант, принадлежащий г-же Стрепетовой, относится к окончанию второго явления. В тексте сказано: «Прощайте, голубчик барин (целует Чеглова и идет, но у дверей приостанавливается)». Г-жа Стрепетова переносит это движение к концу своей реплики, и после слов: «не утерпит без того сердце мое» — порывистым жестом обнимает Чеглова, и, застыдившись, с полузакрытым лицом, отворачиваясь, на ходу бросает Золотилову: «Прощайте и вы, сударь». Сцена выходит так гораздо эффектнее. В спектакль 18 февраля она вызвала гром рукоплесканий и три вызова.
В 3-м действии Лизавета, избитая мужем, лежит за перегородкою. Не не видно. В 4-м явлении только раздается протяжный, как стон, голос ее: «Не смогу я… будет с меня… спасибо…» и потом: «не от радости и я отворачивалась… тоже» (вместо: тоже отворачивалась). «Добрые люди не указчики про нас» (с озлоблением). Сцена сходки удивительно драматична: шум говора все растет и наконец достигает крайнего предела в словах Анания: «Бабе моей! Когда она, бестия, теперь каждый шаг мой продает и выдает вам, то я не то, что таючись, а середь белого дня, на площади людской, стану ее казнить и тиранить; при ваших подлых очах наложу на нее цепи и посажу ее в погреб ледяной, чтоб замерзнуть и задохнуться ей там, окаянной!» Голос г. Писарева раздается, как удары грома в этой потрясающей тираде, бешенство достигло своего апогея, — и в эту минуту, когда, казалось, драматический эффект достиг крайнего предела, — выбегает Лизавета (в ремарке: быстро появляется), проталкиваясь между мужиками; волосы ее висят космами, сарафан расстегнут. «Нету-нету, не бывать по-вашему никогда. Довольно вы надо мной поначальствовали». Тут уже нет и следа слезливости в ее голосе. Как разъяренный зверь, с сухими горящими глазами, рыщет она по горнице, бросается к шкапу, к сундуку, ищет платье, обобранное мужем. Трагизм положения неожиданным взмахом поднимается еще выше, выше… захватывает дух у зрителя, — чует он, что сейчас совершится что-нибудь ужасное… За перегородкою раздается громкий, раздирающий крик Лизаветы после слов: «подай младенца, подай, а то ослеплю тебя… — и звук пощечины (?) — Ах, ты, бестия, смела еще руку поднять на меня. На́, вот тебе твое поганое отродье! (раздается страшный удар и пронзительный крик младенца)». Вместо последнего, на сцене из-за перегородки раздается крик Лизаветы и после паузы слышен ее голос: медленный стон, словно причитание, тягучий как у человека, нервные центры которого поражены, парализованы: «ба-атюшки, уу-бил младенца-то, у-убил» (последнее слово добавлено). Тем же тоном и следующая фраза: «ба-тюшки — совсем-уже-не-дышит-вся-головка-раскроена…»
В театральном отношении, в смысле постепенного форсирования эффектов, актрисы обыкновенно усиливали отчаянные ноты последних фраз Лизаветы. Г-жа Стрепетова играет эту сцену более верно: ужасная катастрофа подкосила ее энергию, — остался стон, началось то состояние, которое описывает сотский в 3-м явлении 4-го действия: «в те поры, ваше благородие, как младенца-то убили, как ухватила его: руки окоченели… Я прибежал и едва почесть выцарапал его у ней, а теперь только-то и вопит, что грешница, да грешница, в рассудке, что ли, маненько тронулась?».
В минуты возбуждения, во время взрыва энергии 3-го действия, в Лизавете сказывается та черта, о которой она сама говорила барину: «я сама-то человек не переносливый». После убийства «ее красавчика», она уже труп ходячий; удар, нанесенный ребенку, отразился на ней, вызвал столбняк, конечности ее полу-парализованы, движения автоматичны, самочувствие ослаблено, речь бессвязна, слабо теплющаяся мысль болезненно сосредоточена на одном представлении — раскроенный череп ребенка…
В таком виде появляется Лизавета в 4-м действии. Лицо ее мертвенно-бледное. Сотский поддерживает ее подмышки, а не по театральному — под локти. Руки ее висят, как плети. Голова обернута белым полотенцем — деревенский траур. При словах: «я грешница… грешница», — она поднимает глаза к небу (в ремарке: склоняет голову). При фразе: «нету его, батюшки, моего красавчика, нету! Убили (да), отняли его у меня» г-жа Стрепетова не «разрывает рубашку» и совершенно основательно, так как упадок сил Лизаветы дошел до крайнего изнеможения. Она также не «падает, вырываясь из рук сотского», но со слабым, прерывистым стоном склоняется, как бы выскользая из рук сотского. «Держи ее, дуралей», — кричит чиновник. — «Что все падаешь?» — говорит сотский; — «постой хоть немного перед начальством-то!» А чиновник делает меткое замечание: «притворщица какая, а?» Наиболее гуманным оказывается исправник: «какое уж тут притворщица… человек совсем, как видно, ошеломленный». Но г. Шпрингеля убедить не легко: «я приведу ее в рассудок. Она у меня сейчас опомнится. Я не из чувствительных и все знаю, как дело шло и происходило… Не пускать ее и посадить вот тут, на кресло, и позвать мужика из сеней. Я ей вотру в рожу краску, коли она совсем ее потеряла». — Увы! это не удается ревностному губернаторскому чиновнику: Лизавета в себя приходит на минуту, и то лишь, когда слышит голос мужа (явление 6-е). Чиновник, оглянув Анания, говорит: «Молодец славный! хоть тысячу плетей, так выдержит». Лизавета начинает слабо всхлипывать. Ремарка: «вытягивается всем телом» — выпускается. После слов Никона «Полштофчиком поклонился, да и шабаш на том», в ремарке сказано: «Лизавета снова начинает рыдать. Сотский зажимает ей рот». Г-жа Стрепетова, вместо этого, только стоном и беспомощным метанием головы, как мечется больной на изголовье, выдает одолевающий ее прилив тоски. После этого ее уводят. В промежутке между этим выходом и последним явлением — 8-м — Лизавете успели растолковать, что, дескать, Анания сейчас в острог повезут, простись с ним. Матрена поддерживает Лизавету, которая едва на ногах держится. В ремарке сказано: «Ананий подходит к матери и жене. Та бросается ему сначала на руки. Он целует ее в голову. Она упадает и обнимает его ноги». Г-жа Стрепетова место это играет так: Ананий подходит к ней. Она взглядывает на него бессознательно и вдруг, как бы поняв все, что происходит, протягивает к нему руки, обхватывает его колена, замирает со стоном и падает замертво на землю. На этом мы и закончим опыт сценического комментария в роли Лизаветы. Повторяем, факты эти театральные, и только с этой точки зрения могут иметь известный интерес.

























