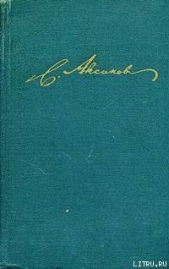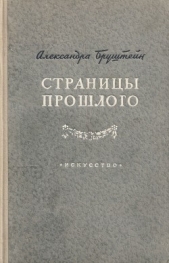Театральные портреты.

Театральные портреты. читать книгу онлайн
Вступительная статья и примечания М. О. Янковского."Театральные портреты" великих актеров 19 - начала 20 вв. Среди них П. А. Мочалов, А. И. Южин, М. Н. Ермолова, К. А. Варламов, М. Г. Савина, В.Ф. Коммисаржевская, В. П. Далматов, М. В. Дальский, Е. Н. Горева, Ф. П. Горев, Ю. М. Юрьев, В. И. Качалов, П. Н. Орленев, Н.Ф. Монахов, А. Д. Вяльцева, Томмазо Сальвини, Элеонора Дузе, Сара Бернар, Режан, Анна Жюдик, "Два критика (А. И. Урусов и А. Н. Баженов)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но что значит: «старайся, не свернись» — когда «вся суть в глазах»? И большинство ведь всегда уверено, что именно такие мочаловские глаза имеются у них. Мочаловский завет — это «нутро». С известной точки зрения в известном ограниченном смысле — это и есть сущность русского таланта, его национальная черта. Очень легко осмеять «нутро», если под ним разуметь только то, что мы «ленивы и нелюбопытны». Но «нутро» заключается в том, что человек отдает все, всю правду, всю силу души, без остатка, на то дело, которым в данную минуту поглощен. Это значит, по термину французского судопроизводства, не только rien quelavйritй, но и toute la vйritй[71]. Это значит, как у Власа, «сила вся {101} души великая в дело божие ушла», хотя раньше тот же Влас «промышляющих разбоями конокрадов укрывал». Вот что такое русское «нутро» в общем смысле слова и что последующие поколения обоготворили в Мочалове. Когда вспоминаешь известный «Paradox sur le comйdien»[72] [73] Дидро, главная сущность которого заключается в том, что актер остается совершенно безответственным по отношению к тому, что он изображает, то начинаешь понимать значение унаследованной от Мочалова религии «нутра». «Нутро» это не значит, конечно, что актер сам бьется в истерике, изображая истерику, или сам плачет, в то время как мы рыдаем. В русском мочаловском «нутре» главное — это жертва красотой, формой, эстетикой для «души»; это субъективная страстность вместо объективной рассудочности; наконец, искание правды и слияние с ней до самозабвения.
Вот почему Хрисанф вспоминает о мочаловской фразе из «Гамлета»: «Ты хочешь играть на душе моей, а не можешь сыграть на простой дудке». Гильденштерн и Гамлет, с точки зрения этой фразы — полярности; Мочалов едва ли философски постигал различие этих двух темпераментов, а инстинктивно влагал в эти слова весь жар своего чувства. Так и надо понимать теорию русского актерского «нутра», и такое именно понимание и легло у последующих поколений в основание мочаловской традиции и сообщило русскому актеру, при всей подчас «неясности форм», по щепкинскому выражению, так много яркого и так порою потрясало зрителей.
Истина вообще лежит посередине. В логической области должен господствовать тот же закон сложения и разложения сил, как в механике, и, подобно тому, как в параллелограмме сил производная идет по диагонали, {102} так точно и в деле практической, осуществимой, земной истины. Le juste milieu[74] театра, как и всякого искусства, направляется по средней линии синтетического соглашения и объединения дионисовского и аполлоновского начал, мочаловского «нутра» и рационализма. Образ зарождается неисповедимыми путями, из бессознательных или, точнее, подсознательных глубин, контролируется, проверяется, исправляется, корректируется разумом или, иначе говоря, объективными данными художественного материала, подвергнутого оценке разума. В этом соединении и синтезе и заключается высший идеал искусства, его гармония.
Гармония или равновесие предполагает устойчивый тип душевного развития и социального быта. Это именно то, чего не хватало русскому театру, как не было его ни у русской личности, в широком смысле понятия, ни у русской жизни — вообще. Лихорадка трепала русскую жизнь искони, особенно же начиная с Петра Великого. Все безмерно ширилось, все бралось с разбегу. Ни в тех классах общества, к которым принадлежал Аксаков, ни в тех, к которым принадлежал Мочалов, не было устойчивости; и тем и другим равно была чужда законченность форм; и те и другие были im Werden, в будущем — процессе ли распада, как русское интеллигентствующее барство, или в процессе смутного и неясного брожения, как слегка сдвинутая с вековых устоев народная толща. Помочь делу словесным убеждением, дать жизнь диалектикой, как пытались это сделать Аксаков и другие, — задача, увы, неосуществимая. Нужен органический сдвиг русской жизни для того, чтобы создать наконец гармонию личного и творческого в русском искусстве.
{103} Вопрос этот чрезвычайно широк и громаден, и не здесь нам разрешать его или даже пытаться его во весь рост поставить. Для нашей цели совершенно достаточно, если наш очерк приведет читателя к убеждению, что Мочалов не есть некое «беззаконное светило», некий случайный эпизод русского театра, русского искусства, а что он представляет, во всяком случае, многими сторонами своими неизбежность, что в нем обнаружилась еще неосознанная стихия русской жизни и что попытки ввести эту стихию в рамки русского интеллигентского культуртрегерства были обречены на неудачу за отсутствием общего языка. Процесс создания устойчивых форм русской жизни и гармонических форм русского искусства, в сущности, еще только начинается. И поскольку мочаловская традиция сильнее властвовала над русским актером, чем каратыгинская или даже щепкинская, постольку это свидетельствует о том, в чем всегда лежал центр тяжести русской жизни, где была широкая сторона русской социальной пирамиды. На многое постепенно раскрываются глаза, и историю русского театра мыслишь сейчас, быть может, тоже иначе, чем она мыслилась раньше.
{104} А. И. Южин[75]
Имя Южина впервые я услышал, будучи студентом Петербургского университета. Среди студентов принято было гордиться товарищами, которые чем-либо и как-либо выдвинулись в жизни. За ними следили, и их успехи составляли предмет самых оживленных разговоров в «клубе» студентов, то есть «вешалке» и прилегающем буфете. Вот тут-то меня и познакомили с тем, что Южин, года за два до моего поступления кончив наш Петербургский университет, стал профессиональным актером и играет в так называемом «театре дешевых квартир». И что необходимо поддержать товарища. И тут {105} же мне подсунули билет. Это было где-то в Измайловском полку[76], и теперь я, пожалуй, не найду даже дома, если он существует. Не помню я ничего о спектакле. Может быть, он не состоялся. В этом театре давали спектакли любительские кружки (в то время существовала еще монополия императорских театров), и спектакли часто отменялись, в зависимости от прихода или неприхода публики. Но если я ничего не помню о спектакле, то имя Южина продолжало жить в моем сердце, как имя знаменитости родного мне университета. К театру я лично относился — трудно этому поверить — совершенно равнодушно и мечтал о карьере блестящего адвоката. Тогда я, знаменитый адвокат, и Южин, знаменитый актер, мы придем, рука об руку, 8 февраля, в день нашей alma mater[77] на именинный обед, и студенчество устроит нам торжественную встречу.
Я не сделался, увы, адвокатом, но Южин остался верен мечте своей юности. Театр овладел им с гимназической скамьи.
В занятной статье «Студент и 38 номер галереи Малого театра»[78] (см.: «100 лет Малому театру», издание РТО) имеется весьма любопытное автобиографическое указание или, как выражается Южин, «автобиографическая предпосылка».
«И тогда, как и теперь, как и в промежутки этих “тогда” и “теперь” и ранее этого “тогда”, в молодом пласте русского мира всех классов и всех национальностей существовал довольно обширный слой молодежи, для которого литературная и театральная часть общерусской жизни была неотделимой, смело можно сказать — доминирующей надо всем остальным стороной {106} его духовных устремлении, его жизненного тяготения. Все вопросы и общего и личного характера в душах юношей, образовывавших этот слой, возникали и разрешались в преломлении театра и литературы, как для других слоев того же молодого пласта — в политическом, социальном, научном, религиозном преломлениях, а для слоев менее идеологического свойства — в преломлении их личного приспособления к жизненной борьбе за себя.
В числе органических крупиц, образовавших, коротко говоря, “литературно-театральный” слой молодежи того времени, был и я вместе с немногими друзьями моего детства, из тесного и немногочисленного кружка которых двое — Вл. И. Немирович-Данченко и я — срослись с этим слоем с первых классов гимназии, да так и остались в нем до наших дней, растеряв на пути и тех двух-трех человек, которые жили в этом мире театрально-литературного преломления. В предшествующие студенчеству наши молодые годы мы оба, да еще покойный В. Г. Туманов, одолевали бесчисленные препятствия гимназической ферулы для устройства всяких тайных спектаклей на окраинах и частных квартирах».



![Силь [= Сил]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)