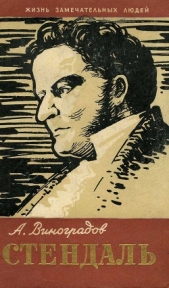Жизнь Микеланджело

Жизнь Микеланджело читать книгу онлайн
Французский писатель Стендаль (настоящее имя – Анри Бейль), автор изощренных психологических романов «Красное и черное» и «Пармская обитель», имел еще одну «профессию» – ценителя искусств. Его тонкий аналитический ум, действие которого так ясно ощущается в его романах, получил богатую пищу, когда писатель, бродя по музеям и церквям Италии – страны, которой он глубоко восхищался, – решил как следует изучить живопись. Для этого в 1811 г. он приступил к чтению различных искусствоведческих трактатов, но быстро заскучал: они показались ему сухими и вялыми, недостойными великих произведений, о которых были написаны. И тогда Стендаль взял дело в свои руки. Так появился его двухтомный труд «История живописи в Италии», опубликованный в 1817 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но представим на минутку, что государь, столь хорошо обходившийся с нами, действительно всемогущ – в полном смысле слова.
Ему не нужно было уворачиваться от летевшего рикошетом ядра – он мог просто приказать ему остановиться.
Ему не нужно было делать над собой большое усилие, чтобы простить смехотворных убийц – он ведь бессмертен.
Он ничем не пожертвовал, отдав последний кусок хлеба раненому бедняге. Ему следовало бы тут же залечить рану или, еще лучше, сделать так, чтобы тот не был ни раненым, ни несчастным; мы видим, что нравственная красота исчезает вместе с человеческой природой.
И даже если бы этот чудесный король одним взмахом волшебной палочки излечил раненого, этот поступок был бы слишком легок и сильно уступал бы поступку простого смертного государя, отдавшего свой последний кусок хлеба.
Одним словом, этот всемогущий правитель, это всесильное существо, к счастью которого мы ничего бы не могли прибавить, не может быть несчастным. Напрасно я ищу на его челе роковую печать человечности. И в своем сердце я сразу же читаю, что в каком бы положении к подобному существу я ни оказался, я не мог бы его любить.
Таково удовольствие, которое дают нам произведения великих художников: они тотчас же ставят перед нами великие вопросы о природе человека [8].
О том, что нет истинного величия без жертвы
Некоторые академические философы не преминут заметить, что нет ничего легче для искусства, чем изображать божественные чувства. Это тем легче, что нам совершенно невозможно даже представить простейшее из тех чувств, что Божество может испытывать по отношению к человеку. Если кто-то держится иного мнения, предложите ему бумагу и чернила и попросите описать то, что он так хорошо представляет себе.
Искусство может трогать нас, лишь изображая человеческие страсти, что вы видели на примере самой трогательной сцены, какую только в состоянии предложить нам религия; как только при созерцании возвышенных картин в церквях в наши головы проникает толика религиозной мысли, наши слезы тотчас же высыхают навсегда (чтобы уступить место глубокому уважению). Религия Ф*** была только чувствительным эгоизмом.
Молодая женщина в Лорето видела своего сына или любовника убитым, с головой, лежащей на ее коленях, или, может, она верила, что эта столь нежная и столь несчастная мать наделена властью, способной открыть ей ворота в рай, и вот она горько раскаивалась, что прогневала ее своими грехами.
Зритель, который достаточно поразмыслил, чтобы убедиться, что не это он должен себе представить, не знает, как заставить себя растрогаться.
Изображение события, в котором действующим лицом является сам Бог, может быть уникальным, интересным, необычным, но не может быть трогательным. Сам Канова напрасно бы взялся за сюжет Микеланджело. Он бы увеличил число крестьянок из Лорето, но не дал бы нам почувствовать ничего нового. Бог может быть благодетелем, но так как, одаривая нас, Он сам ничего не лишается, моя благодарность – если исключить надежду получить новые выгоды благодаря бурным ее выражениям – неизбежно будет меньшей, чем та, которую я испытывал бы к человеку [9].
А как же тот японец, скажут мне, который на картине Тиарини в капелле Св. Доминика в Болонье видит своего ребенка воскрешенным св. Франциском Ксаверием? Если он чувствует живейшую признательность, отвечу я, то это потому, что она внушена ему человеком. Если это чудо сотворил Бог, то почему Он, будучи всемогущим, позволил бедному ребенку умереть? И даже сам св. Франциск Ксаверий – чего он лишается, воскрешая его? Это Геркулес, выводящий Алкесту из царства мертвых, но не Алкеста, жертвующая собой ради сохранения жизни супруга.
Единственное чувство, которое может внушить Божество простым смертным, это ужас, и кажется, что Микеланджело родился, чтобы вдыхать этот ужас в души посредством мрамора и красок.
Теперь, когда мы увидели, как далеко распространяется власть искусства, перейдем к рассмотрению того, что относится непосредственно к художнику.

Микеланджело Буонарроти. Пьета. Ок. 1530–1536 гг. Галерея Альбертина. Вена.
Микеланджело – человек своего века
Вы действительно хотите познакомиться с Микеланджело? Для этого необходимо сделаться гражданином Флоренции в 1499 году. Но ведь мы не заставляем иностранцев, приезжающих в Париж, носить печать красного воска на ногте большого пальца, мы не верим ни в видения, ни в астрологию, ни в чудеса (мы говорим лишь о современных чудесах и полны благоговения и веры в чудеса, которые Господь счел необходимыми для установления истинной религии). Английская конституция показала миру настоящее правосудие, и атрибуты Бога изменились (имеется в виду, что люди составили себе о Нем более верное представление – см. «Человек желания»). Что до просвещения, то у нас есть античные статуи, всё, что тысячи умных людей сказали по их поводу, и опыт трех столетий.
Если бы во Флоренции большинство людей уже достигло этой высоты, до чего бы только не дошел гений Буонарроти? Но простейшие идеи современности показались бы тогда сверхъестественными. Только своим сердцем, внутренним порывом люди того времени оставляют нас далеко позади. Мы лучше различаем дорогу, по которой следует идти, но старость сковала наши суставы, и, словно зачарованные принцы из арабских сказок, мы напрасно растрачиваем себя на бесполезные движения: мы не сможем шагать. Два столетия так называемая учтивость осуждала сильные страсти и, в конце концов подавив, уничтожила их: они встречаются теперь только в деревнях (История Маино, удивительного вора, убитого в 1806 году близ Александрии. – У. Э.). Девятнадцатый век вернет им их права. Если бы Микеланджело был нам дарован в наши просвещенные дни, чего бы он только не достиг. Какой поток новых ощущений и наслаждений излил бы он на публику, столь хорошо подготовленную театром и романами! Возможно, он создал бы современную скульптуру, возможно, принудил бы это искусство изображать страсти, если вообще страсти ему к лицу. По меньшей мере, Микеланджело заставил бы его изображать состояния души. Голова Танкреда после смерти Клоринды, Имогена, узнающая о неверности Постума, нежное лицо Эрминии, пришедшей к пастухам, искаженные черты Макдуфа, требующего, чтобы ему рассказали об убийстве его детей, Отелло после убийства Дездемоны, Ромео и Джульетта, просыпающиеся в склепе, Уго и Паризина, выслушивающие приговор из уст Никколо, – всё это появилось бы в мраморе, и античные произведения оказались бы второстепенными.
Флорентийский художник ничего этого не видел, зато видел, что страх – первейшее человеческое чувство, что он торжествует надо всем остальным и что он, Микеланджело, превосходно умеет вызывать его в людях. Его несравненное знание анатомии придало ему новый пыл; за нее он и ухватился.
Как бы он мог догадаться о существовании иной красоты? Античная красота в его время нравилась только потому, что была хорошим изображением. Чтобы восхищаться «Аполлоном», нужна афинская учтивость; Микеланджело же постоянно оказывался занят религиозными или воинственными сюжетами: мрачная жестокость составляла религию его века.
Сладострастие, порождаемое климатом Италии, и ее богатства отдаляли от фанатизма. Савонарола с его мыслями о реформе сумел было на мгновение наполнить сердца флорентийцев этой черной страстью. Новатор произвел эффект, особенно на сильные души, и история рассказывает, что во всю его жизнь Микеланджело представлялось страшное лицо этого монаха, умиравшего на костре. Он был близким другом несчастного. В его душе, скорее сильной, чем нежной, навсегда запечатлелся ужас перед адом, а умы были совершенно иначе подготовлены, нежели наши, и согнулись перед этим чувством. Некоторые правители, некоторые кардиналы были деистами, но привычка раннего детства оставалась навсегда. А мы в двенадцать лет уже читали Вольтера (автор отнюдь не поддерживает того, о чем он сообщает в качестве историка).