Орест Кипренский
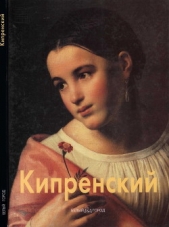
Орест Кипренский читать книгу онлайн
Орест Кипренский по многим позициям удерживает в русском искусстве титул первого: первый романтик, первый живописец и первый портретист собственно XIX столетия, первый мастер карандашного портрета. Это первенство сопряжено с единственностью, неповторимостью и одновременно художественным совершенством, которое и в его время, и долго потом оставалось непревзойденным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Портрет Василия Андреевича Жуковского. 1816
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Константина Николаевича Батюшкова. 1815. Рисунок Государственный Литературный музей, Москва

Молодой садовник. 1817
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Италия.
В кругу «старых мастеров»
В мае 1816 года Кипренский уехал за границу на средства, предоставленные императрицей Елизаветой Алексеевной. В Рим он прибыл в январе 1817 года. Снова, как в годы молодости, когда он бродил по залам Эрмитажа, Кипренский попал в грандиозный музей, сокровищницу европейского искусства; только теперь этим музеем оказались для него, как и для многих его собратьев по ремеслу, Рим и Италия в целом. Но он не оробел: «При виде творений Гениев рождается смелость, которая в одно мгновенье заменяет несколько лет опытности», - признавался он в одном из писем. В первый же год своего пребывания в Риме Кипренский написал картину Молодой садовник и отослал ее в Петербург как отчет перед императрицей. Художник находился на уровне заявленной задачи - соревнуясь со старыми итальянскими мастерами (в картине можно заметить влияние ранней живописи Караваджо), он демонстрирует формальное мастерство и понимание особенностей так называемого итальянского или итальянизирующего жанра, который во второй трети XIX века получил широкое распространение. Этот жанр эксплуатировал ходовые понятия об Италии и итальянской жизни, существенной особенностью которых было представление о «простых жителях Италии» как «детях природы», словно сошедших с картин старых мастеров. Смена художественной ориентации, произошедшая в Италии, отчетливо дает о себе знать, например, в Портрете Софьи Степановны Щербатовой (1819). Если в ранних графических портретах, таких, как портреты Кочубей или Муравьева, покоряет обаяние нравственного свойства, оставляющее далеко позади изощренность исполнительского мастерства, и мы говорим себе: «какой прекрасный человек!», то теперь подразумевается иной род восхищения: «какой прекрасный рисунок!».

Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке (Мариучча). 1819
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет князя Александра Михайловича Голицына. Около 1819
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Идеалом становится само мастерство. Портрет очевидно срежиссирован, сложная поза имеет умышленно постановочный характер, темп нанесения штриха, в котором прежде материализовался процесс созидания изображения, здесь исчезает, скрывается в незаметных, неуловимых градациях нажима карандаша. В живописных портретах итальянские влияния сказались в Автопортрете (1820) и лучшем портрете этого времени - Портрете князя Александра Михайловича Голицына (около 1819). Путешествующий русский вельможа, пополнивший ряды охотников за художественными впечатлениями, Голицын прибыл в Рим из Неаполя, где заказал Сильвестру Щедрину неаполитанский вид, а в Риме встретился с Кипренским. Здесь легко узнаваема весьма банальная в жизни ситуация - путешественник на некой смотровой площадке с видом на Рим. Зритель в таком контексте - это кто- либо из бесчисленных зевак, приехавших созерцать знаменитые панорамы. Но ведь и сам изображенный в портрете персонаж - тоже один из них! Однако самоощущение его таково, и представлен он с этим дистанцирующимся от зрителя взглядом так, что внутри этой ординарной «туристической мизансцены» возникает тоже узнаваемая, но принадлежащая к тонким психологическим материям коллизия, представляющая собой другой поворот темы - «одиночество в толпе». Коллизия, которая имеется в виду, вполне знакома:
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественной природы красотам,
И пред созданьями искусств
и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
Вот счастье! вот права..,
- написал Пушкин в одном из поздних стихотворений. Но таковые «восторги умиленья» - дело глубоко интимное, уединенное. Чрезвычайно ординарная ситуация представлена в психологическом измерении - как совершенно неординарная и уникальная, а персонаж из «туристических полчищ», слоняющихся по вечному городу, - как единственный и неповторимый в своей человеческой особливости. Сценарий этого портрета исполнен, сыгран так, что это исполнение оказывается в разительном противоречии с жизненным содержанием этого сценария. Как если бы нам показали актера, который в ходе всем известной, заученной популярной пьесы вдруг позабылся и задумался о чем-то своем, человеческом, не имеющем отношения к тексту роли. Иначе говоря, человек единственен, отделен, одинок перед лицом рисующихся под арочными сводами Вечного города вечных красот, которые принадлежат всем - и никому. Это, пожалуй, самое проникновенное в русском искусстве воплощение хрестоматийно романтической темы: одиночество человека - странника, затерянного в чуждом мире. Эта тема будет позднее резонировать в уффицианском Автопортрете, в портрете Авдулиной и далее вплоть до портрета Пушкина.

Портрет великого князя Михаила Павловича. 1819. Рисунок Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Софьи Степановны Щербатовой. 1819
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Екатерины Сергеевны Авдулиной. 1822
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Париж
В марте 1822 года Кипренский приехал в Париж и создал здесь Портрет Екатерины Сергеевны Авдулиной - своего рода резюме затеянного в итальянский период диалога со старыми мастерами. Он перенасыщен музейными ассоциациями. В нем уже не раз отмечались переклички с луврской Джокондой Леонардо, другие итальянизмы, в частности, определенное сходство с Портретом Элеоноры Гонзаго Тициана из галереи Уффици, откуда позаимствован способ, каким введен в изображение «мотив окна». Но это также и автореминисценция - композиция зеркально повторяет портрет Ростопчиной 1809 года. Сравнение с ренессансными образцами позволяет акцентировать здесь и некий маньеристический,«готизирующий» оттенок. Ощутима «стрельчатость» композиционного треугольника. Округлость и плавность линий сочетается с прихотливостью: так, мягкая парабола окутывающей плечо шали по линии отгиба каким-то сейсмическим эхом откликается в трилистнике наверху; каждая линия как будто повторена в прихотливой вариации. Особенно заметна рифмовка в наклоне фигуры с наклоном веточки в стакане. Опущенный сложенный веер как будто показывает траекторию падения цветка из соцветия. Линия оконного проема прервана находящим на нее сквозистым силуэтом кружевного чепчика, а прямой угол окна скрыт мягким буфом рукава.
Мастерски владея изображением рук, Кипренский откровенно вступил в соревнование с классикой. Естественная грация покоя чуть расслабленных рук Моны Лизы здесь заменена более сложным ракурсом правой руки, держащей веер. Интересно заметить, что длинные рукава у Авдулиной закрывают запястья, видимые у Моны Лизы, а это ведь та точка гибкости, отсутствие которой придает абрису рук Авдулиной тревожащую взгляд странность. Современному глазу покажется странным и модный чепец. Такие рюши и оборки, идущие вдоль завязок, можно увидеть на многих женских портретах тех лет (у Кипренского, например, в портрете Щербатовой или в выполненной в Париже литографии, изображающей Ростопчину, которая обожала чепчики). Этот прозрачный тюль с белыми мушками, дрожащий около болезненно-нежного лица - еще одна рамка, еще одна невесомая граница, отделяющая человека от свинцово-сизых туч за окном. Все «устройство» этой композиции указывает на ее аллегорическое происхождение. Но это какая-то косвенная аллегория - художник умудрился сохранить портретный характер изображения, присовокупив к нему универсализирующую содержание тему memento mori путем сопоставления преходяще-хрупкого и мизерного (опадающий цветок в стакане) с беспредельно грандиозным (грозовое небо за окном).

























