Журнал «Вокруг Света» №06 за 1973 год
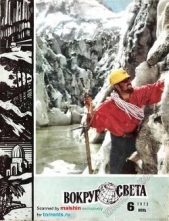
Журнал «Вокруг Света» №06 за 1973 год читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Наверное, кочевали, — подтвердил Сергей. — Старуха в тундре не пропадет.
Такого спокойствия я не ожидал. Оставалось только жалеть о погибших пирогах. Навряд ли пурга помогла тесту подняться. Закопавшись поглубже в снег, спинами к ветру, сидели мы в первомайскую ночь и ждали рассвета.
Около четырех утра ветер чуть стих, но снег еще шел. Тынытегин отправился к палатке, а мы оставались в табуне. Еще через час подъехали на оленях Мерхини с Гиклавом, они ночевали на той стороне горы, под перевалом Мы сели к ним на нарты пассажирами и через полчаса спуска по сугробам были у стоянки. Первый, кого я увидел, был Тынытегин. Он быстро раскапывал снег лопатой, что-то искал. Сердце екнуло в моей груди. Соскочив с нарты, я подбежал к нему, он вскрикнул и схватил меня за плечо. В то же мгновение я увидел у ног здоровенную яму, до самой земли, а на дне ее Кечигвантин. Она преспокойно жарила на костре лепешки. Пошли в расход мои пироги.
— Коле, коле, мей, — закричал я. — Минки е ёённа? (Где палатка?)
— Вон в кустах. Кечигвантин туда кочевала, чтобы было теплее, — ответил мне Тынытегин.
Я не поленился добрести туда. Между кустов, метрах в ста от стоянки, как крыша над снежной ямой, была натянута палатка, борта ее закопаны в снег. Судя по надвое разорванному потолку, наскоро сшитому толстой белой ниткой, женщинам досталось в пургу. Я сунул в эту снежную нору нос: там на ветках безмятежно спала Проха вместе со своим сыном.
О! Напрасно же я волновался за Кечигвантин. Действительно, как говорит Тналхут, «старые люди в тундре все знают».
Не переодевшись в сухое, не наводя порядка, мы накинулись на еду. Как положено: поработал — поешь, отдохни — снова можно работать.
Леонид Баскин, Фото А. Маслова
Северная Камчатка
Хождения за три века
Москва XVII иска не поскупилась оставить о себе память в архитектуре. Но предоставим слово памятникам иным — далеко не столь эффектным и впечатляющим, а для первого взгляда и вовсе скучным. Предоставим слово казенным бумагам XVII века.
Московская городская перепись 1620. года — самая обыкновенная и самая необычная. Обыкновенная потому, что перечисляла всех, кто жил в городе, платил любые налоги и подати, владел оружием и имел оружие на случай военного времени. Необычная потому, что она была первая после пожаров и разрухи Смутного времени, когда самые благожелательные из иностранных наблюдателей вынуждены были признать гибель русской столицы. «Таков был страшный и грозный конец знаменитого города Москвы», — шведский купец Петрей Ерлезунда написал эти слова в 1611 году, глядя на бушевавшее по всему городу огненное море.
Всего каких-нибудь девять лет — и снова те же улицы, те же церковные приходы — основная территориальная единица средневекового города. Дворы остались в их старых земельных границах. Если хозяин и не успел отстроить дома, земля оставалась его собственностью. А не успевали отстроиться разные люди.
На Драчовой улице продал кафтаннику свой неотстроенный двор рожечник Ивашко. Осталось пустовать тяглое место ушедшего «кормиться в миру» гусельника Богдашки...
Профессий было множество — перепись называла их около двухсот пятидесяти. Были здесь железники, котельники, сабельники, игольники, были харчевники, блинники, пирожники, медовщики. Были заплечных дел мастера и денежные мастера. Были и печатники, словолитцы, книжные переплетчики, переводчики. Был и «перюшнова дела мастер» — парикмахер, выделывавший парики. Вот и суди тут о привычном представлении, что появились парики в русском обиходе в петровское время, да и то привозившиеся из-за рубежа!
Да что там перепись. Описи имущества в боярских домах тех же лет подтверждают: «накладные волосы длинные» встречались нередко. И разве не говорит само за себя то, что был «перюшнова дела мастер» местным, русским, хотя, возможно, и единственным в городе. Впрочем, единственным в Москве, судя по переписи, оставался и лекарь — иноземец Олферий Олферьев. Единственным среди рудометов, которые «отворяли кровь», специалистов по лечебным травам — зелейщиков. Имел он свой двор «в Казенной улице от Евпла Великого по другой стороне на праве» (так определялся тогда точный московский адрес) и врачевал не царскую семью, а обращавшихся к нему горожан.
Так было с медиками в 1620 году, а спустя каких-нибудь 18 лет лекари появляются на многих улицах Москвы и все в собственных дворах, иначе говоря, обосновавшиеся на долгое житье. К 1660-м годам их можно найти по всему городу и в том числе докторов — звание, которым отмечалась высшая ступень медицинских знаний, причем половину лекарей составляли русские специалисты. На Сретенке, в Кисельном переулке, имеет двор лекарь Иван Губин, у Мясницких ворот «аптековские полаты лекарь» Федот Васильев и лекарь-иноземец Фрол Иванов. От Сретенки до Покровки располагаются лекари Карп Григорьев и Дмитрий Микитин, на Покровке «дохтур» Иван Андреев и лекарь Ортемья Назарьев, и так по всему Белому и Земляному городу.
Откуда могла возникнуть эта неожиданная тяга к медицине и доверие к ней? О чем это говорит — о неких национальных русских особенностях или совсем о другом — о прямой связи с процессами, происходившими в жизни народов всех европейских стран, будь то Франция, Голландия или Англия? Ведь именно в эти десятилетия анатомия и физиология становятся предметом всеобщего увлечения; слишком наглядны и понятны каждому их успехи. Имена врачей начинают соперничать по своей популярности с именами государственных деятелей, а собрания анатомических препаратов составляют первые публичные музеи.
И вот в Москве не только стремительно растет число ученых медиков, но и уменьшается число рудометов. Становится значительно меньше даже зелейщиков. Зато ширится Аптекарская палата, где лекарства изготовлялись под «досмотром» врачей.
Если кто и мог соперничать с врачами по стремительному росту численности, то это только мастера печатного книжного дела. За восемнадцать лет после первой переписи их число увеличивается без малого в семь раз. И косвенное свидетельство уважения к профессии: земли под дворы им отводятся не где-нибудь, а рядом с московской знатью и именитыми иностранцами, в устье Яузы.
Но все равно потребность в печатниках опережает любое строительство, так что на первых порах многим приходится селиться скопом, лишь бы была крыша над головой.
Соотношение профессий — словно барометр того, как и чем жила Москва. В 1620 году печатников здесь столько, сколько иконописцев, а музыкантов столько же, сколько певчих.
К концу 1630-х годов певчих становится вчетверо больше, музыкантов впятеро, печатников в семь раз, а вот иконописцев всего только втрое. Их число останется неизменным вплоть до петровских лет, и это при том, что население Москвы беспрестанно увеличивалось. Значит, все более явственно давала о себе знать потребность в каком-то ином виде изобразительного искусства.
Еще через четверть века певчих станет вдвое больше, зато в четыре с лишним раза увеличится число музыкантов. А ведь это действительно поразительно! Если даже придерживаться привычной точки зрения, что певчие связаны только со строем церковной службы, это никак не позволяет делать вывод о некоем росте религиозности. Ведь перепись приводит огромное число и тех музыкантов, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не связывались с православным богослужением. Значит, можно сделать предположение о резком росте светских, «мирских» настроений и потребностей.
Загадки возникали одна за другой. В какие только стороны, в какие приказные дела и архивные хранения не уводили размышления над переписями!
Шаху Персидскому — Государь Московский


























