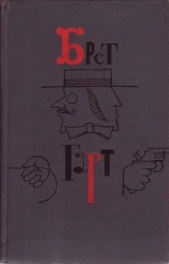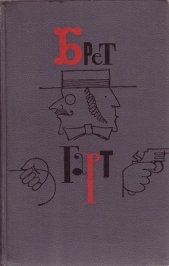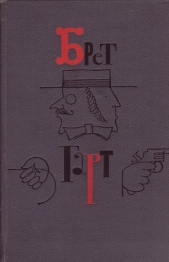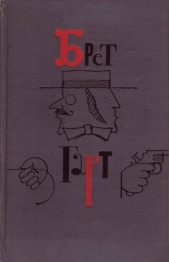Собрание сочинений. Том 1
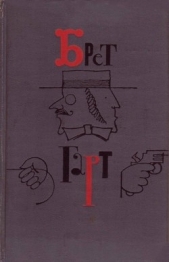
Собрание сочинений. Том 1 читать книгу онлайн
Американский писатель Брет Гарт знаменит своими рассказами из жизни золотоискателей в Калифорнии. События, связанные с открытием и эксплуатацией калифорнийского золота, образуют содержательный и необыкновенно колоритный эпизод в истории Соединенных Штатов, да, пожалуй, и вообще в истории XIX столетия.
Рассказы Гарта рисуют с самых разных сторон жизнь старателей и пестрого люда, населявшего Калифорнию в пору золотой лихорадки. Как справедливо отметил Диккенс, писатель имел дело с совершенно новым, до него никому не ведомым материалом, — он открывал для читателя новые типы людей, новые страницы быта, новые пейзажи, еще никем до того не занесенные на бумагу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Есть несколько любительских песенок весьма задиристого и игривого свойства, очень распространенных в здешних краях, от исполнения которых молодые девицы смущенно и робко отказываются. Среди таких песен выделяется некое любовное произведение, начинающееся словами «Во сне я бредил»; если этот романс исполняется молодой особой бойко и с соответствующей мимикой, он может довести томного воздыхателя до предельного безумия. Такие романсы по вкусу видавшим виды молодчикам, не скупящимся на «охи» и «ахи» в самых выразительных пассажах и завоевывающим притягательную репутацию разочарованных сумасбродов и скептиков.
Но вот музыка, послужившая поводом к вышеприведенным заметкам в скобках, смолкла, а вместе с нею стихло и вызванное ею легкое раздражение. Последняя песня пропета, рояль закрыт, в окнах погасли огни, и белые платья упорхнули с крылечек и балконов. Тишину нарушают только громыхание и стук экипажей, возвращающихся из театра и из концерта. Становящиеся в этот час более резкими, чем в любое иное время суток, эти звуки можно бы назвать ночными голосами города, и я представляю себе, что в людях, родившихся и выросших в городе, они вызывают приятные урбанистические ассоциации. Круглая полная луна постепенно затмевает городские огни, и они — один за другим — словно растворяются, поглощенные величественным светилом. На небе вырисовываются дальние холмы Миссии, но в один из прорывов между ними, как лазутчик, уже крадется морской туман, который только ждет благоприятного морского ветра, чтобы прорваться и приступом взять осажденный город. Несказанный покой спустился на город. В магическом свете луны дроболитейная башня утрачивает свои характерные очертания и истинные масштабы и превращается в минарет, с вышки которого незримый муэдзин призывает правоверных к молитве: «Молитва слаще сна!» Но что это? Шарканье ног по мостовой, приглушенный говор, бренчание каких-то дьявольских инструментов, откашливание и сморкание. О боги! Не может быть! Увы, так оно и есть, так и есть — певцы серенад!
Вечное вам проклятие! Да постигнут вас все муки чистилища, Вильям, граф Пуату, Жирар де Борейль, Арно де Марвейль, Бертран де Борн и все прародители жонглеров, трубадуров, провансальцев, миннезингеров, менестрелей и прочих исполнителей любовных канцон и серенад! Да будут рассеяны и изничтожены все ваши современные потомки, изготовители любовных баллад, насаждающие в девятнадцатом веке бесстыдства средних веков и беспокоящие всю погруженную в сон округу срамными признаниями в любви и россказнями о беспутных подвигах! Падение и безнравственность идут по стопам этих жалких подражателей варварского века, когда имена честных женщин трепались по всем дорогам и ни одна скромная девушка не могла появиться на ристалище или турнире без того, чтобы перечень ее добродетелей, выкрикиваемый астматическими герольдами и подхваченный воплями наемных бандитов, не сделался достоянием толпы. Пропади они пропадом, все эти фальшивые горланы! К черту! Неужто ж я, без промаха бьющий по сладострастным котам, исполняющим у меня на крыше любовные песни, не попаду вон в того расфуфыренного воздыхателя?! А ну-ка! Вот апельсин, завалявшийся с прошлой недели. Он подгнил, он утратил сочность и аромат! А ну! Ловкий бросок! Попал, попал! Не найдется ли где у меня сослужившего службу сапога с отскочившим каблуком и с зияющей сбоку дырой? Вот бы пригодился! Послужи-ка еще разок! Так их! Так! Разбежались. Ну, теперь уйду на покой и я.
Перевод М. Баранович
НАБЛЮДЕНИЯ ПЕШЕХОДА
Время, которое я трачу на дорогу до службы и обратно, всегда доставляло мне своеобразное духовное наслаждение, не доступное мне ни в какое иное время суток. Быть может, моцион способствует веселой игре воображения; но скорее всего дело тут в приятном сознании, что в эти минуты я свободен от каких бы то ни было серьезных занятий. Я пробовал как-то по примеру перипатетиков использовать это время для упражнений в арифметике — весьма полезной науке, в которой я всегда с прискорбием сознавал и сознаю свою отсталость, — но из арифметических выкладок на ходу ничего путного не вышло, и я отказался от этой мысли. Я убежден, что человечество лишает себя многих радостей из-за беспокойного стремления употребить с пользой минуты досуга, которые, к несчастью, подобно «лучезарным часам» доктора Уотса, таят в себе неисчерпаемые возможности праздничных развлечений. Мне от души жаль тех безумцев, которые даже в автомобилях, в омнибусах и на речных переправах не расстаются с учебниками и отказывают себе в столь необходимом отдыхе. Природа требует, чтобы истощенная земля оставалась на какое-то время под паром и не засевалась злаками, но покрывалась цветами. Попробуйте отказать ей в таком отдыхе, и это отразится на следующем же урожае. Надеюсь, после предложенной мной аксиомы читатель извинит меня, что я позволю себе злоупотребить его вниманием и поделиться несколькими наблюдениями, сделанными во время прогулок.
Мало кто из жителей Калифорнии умеет ходить не торопясь и с достоинством. Деловая привычка и общепринятый стиль, распространяющийся даже на людей, не обремененных никакими делами, сообщают каждому пешеходу беспокойную озабоченность. Лица, составляющие исключение из общего правила, впадают в другую крайность: они так подчеркнуто и нарочито прикидываются бездельниками, что это в такой же мере изобличает внутреннюю тревогу и беспокойство. Вы всегда отличите лениво плетущегося игрока от прогуливающегося джентльмена. Даже биржевых маклеров, которые толкутся в полдень на Монтгомери-стрит, вы ни за что не примете за праздных гуляк. Вглядитесь в них пристальнее, и под маской равнодушия вы увидите настороженность и озабоченность. Они не просто отдыхают. Они замерли в ожидании. Мне кажется, ничто так не характерно для нашей своеобразной цивилизации во всех ее проявлениях, как это полное отсутствие покоя. Калифорнийцы не могут оставаться спокойными даже тогда, когда они развлекаются. Если они идут в мюзик-холл, в оперу или на лекцию, они непременно спешат; возвращаются домой — опять спешат; стараясь сэкономить время, они предпочитают ездить на трамвае вместо того, чтобы ходить пешком. Сравните темп уличного движения на Бродвее в Нью-Йорке и на Монтгомери-стрит в Сан-Франциско, и вы поймете разницу между восточной и западной цивилизацией.
Многим пешеходам свойственна одна привычка, которую несколько лет тому назад высмеял «Панч»; однако она сумела устоять перед его едкой сатирой. Мы все имеем обыкновение останавливать на улице наших знакомых, и, хотя нам решительно нечего им сказать, мы непременно должны задержать их только для того, чтобы выразить им свою любовь. Джонс встречает своего приятеля Смита, которого всего несколько часов тому назад он встретил примерно в том же самом месте. За это время ни со Смитом, ни с Джонсом не произошло и не могло произойти ничего особенно важного, что могло бы, по мнению Джонса, заинтересовать связанного с ним дружескими узами Смита, и наоборот. Однако оба приятеля останавливаются и с жаром жмут друг другу руки.
— Ну как дела? — спрашивает Смит, надеясь в глубине души, а вдруг и в самом деле что-нибудь произошло.
— Да ничего, помаленьку, — весьма красноречиво отвечает Джонс, чувствуя, что Смит, как и он сам, не может сообщить ровно ничего сколько-нибудь интересного.
Следует пауза, во время которой оба джентльмена смотрят друг на друга с идиотской улыбкой и продолжают с чувством пожимать друг другу руки. Смит шумно втягивает воздух и смотрит направо; Джонс глубоко вздыхает и поворачивает голову налево. Следует еще одна пауза, оба джентльмена прекращают рукопожатие и беспокойно озираются кругом в надежде найти какой-нибудь предлог, чтобы расстаться. Наконец, Смит (сделав вид, что он забыл о чем-то чрезвычайно важном) восклицает:
— Ну, мне пора!
Красноречивый Джонс, как эхо, вторит Смиту. И джентльмены расстаются, чтобы на следующий же день возобновить эту жалкую комедию. Из сострадания к читателю я сократил в вышеупомянутом эпизоде обычное прощание, которое в умелых руках может затянуться до таких пределов, что вспомнить страшно. Оказываясь участником подобных ужасающих сцен, я иной раз так долго мялся, тщетно стараясь найти какие-то естественные слова (в то время как мой знакомый, судя по всему, тоже отыскивал в самых отдаленных извилинах своего мозга подходящую фразу), что наконец начинал мысленно призывать полисмена, который растащил бы нас в разные стороны. Поразительно, какую силу может в некоторых экстренных случаях приобрести самая бездарная острота, чтобы разъединить сцепившиеся частицы. Помню, я однажды надрывался от смеха (пусть даже истерического) из-за какой-то шутки, под прикрытием которой мне удалось ускользнуть, а через пять минут не мог найти в ней ничего смешного. Я бы советовал всякому, попавшему в столь же тягостное положение, не дожидаться, пока ему поневоле придется отступить перед наехавшим фургоном, но прибегнуть к шутке. Может пригодиться иностранное словечко; я не раз замечал, что «о-ревер», произнесенное вместо au revoir [43] помогало, как и следовало ожидать, разлучить двух любящих друзей.