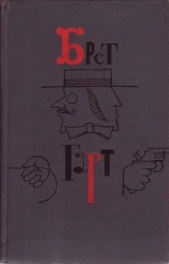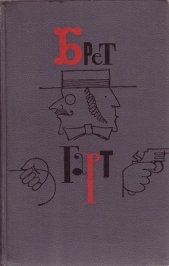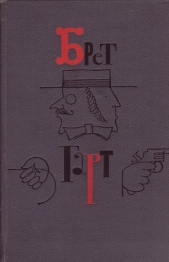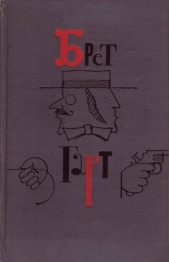Собрание сочинений. Том 1
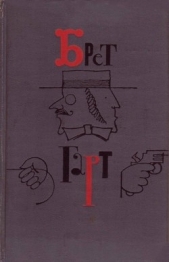
Собрание сочинений. Том 1 читать книгу онлайн
Американский писатель Брет Гарт знаменит своими рассказами из жизни золотоискателей в Калифорнии. События, связанные с открытием и эксплуатацией калифорнийского золота, образуют содержательный и необыкновенно колоритный эпизод в истории Соединенных Штатов, да, пожалуй, и вообще в истории XIX столетия.
Рассказы Гарта рисуют с самых разных сторон жизнь старателей и пестрого люда, населявшего Калифорнию в пору золотой лихорадки. Как справедливо отметил Диккенс, писатель имел дело с совершенно новым, до него никому не ведомым материалом, — он открывал для читателя новые типы людей, новые страницы быта, новые пейзажи, еще никем до того не занесенные на бумагу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В тот ясный денек я смотрел на древнюю часовню, на ее выщербленные стены, так резко контрастирующие с праздничным весенним небом, на ее подагрически скрюченные колонны с отваливающейся, словно рваные бинты, штукатуркой, на ее подслеповатые окна, на разрушающиеся порталы, на белые пятна проказы, проступающие на глинобитных стенах, — и я понял, что жалкой старушке нищенке уже недолго сидеть у дороги, прося Христа ради милостыню. На всей окрестности уже лежит печать обреченности. Гудки локомотивов резко диссонируют с вечерним благовестом. Епископальная церковь в стиле бревенчатой готики с массивными контрфорсами из орегонской сосны кажется издевкой над седой стариной, уже и сейчас вытесняя ее фальшивой подделкой. Увы, перед вторжением города бессильны оказались расположившиеся у стен миссии сельские пристройки, птичники и огороды. И они исчезают. Вместе со смешными глинобитными домишками, крытыми черепицей и похожими на стопки коричных палочек, с двориками, обнесенными изгородями, в которых благоговейно хранится несколько воловьих рогов и обрывков шкур. И я напрасно высматриваю здесь некогда дикого мексиканца, от былого великолепия которого только и остался, что красный кушак под курткой. Недостает мне и черноволосых женщин с отвислыми, дряблыми грудями, одетых в платье, ни фасоном, ни материей не соответствующее сезону, закутанных в шали, являющие безжалостную карикатуру на поэтические испанские мантильи. Всюду проглядывают черты чуждой национальности. У самой часовни выросли железнодорожные мастерские, продымившие всю округу. Гортанный говор вытеснил плавные и шипящие звуки; мне недостает напевных речитативных модуляций в веселых выкриках кучеров дилижансов. «Все на борт!» — кричали они в те добрые старые времена, когда дилижансы ежечасно отправлялись к миссии и такое путешествие было увеселительной прогулкой. У самых ворот храма, на месте тех, «что продавали жертвенных голубок», расположились со своим богомерзким товаром продавцы заводных пауков. Я не вижу сегодня даже старого падре — последнего представителя миссионеров, потомка доброго Хуниперо [42]; вместо него некий белокурый кельт читает заповеди из Вульгаты, обильно насыщенные раскатистым «р». Добрый пастырь, помяни в своих молитвах чужеземца и еретика!
Я отворяю маленькую калитку и проникаю на кладбище. Здесь не заметно никаких перемен, хотя могилы, пожалуй, теснятся плотнее. Ива, растущая за низкой темной оградой, в полном расцвете весны просунула сюда свои пушистые ветви; высокая сочная трава над каждым могильным холмом свидетельствует о поразительной жизненной силе породившей ее земли. Здесь уютнее, чем на вершине горы, где не стихает раздор и смута океанских ветров. Миссионерские холмы бережно охраняют маленькое кладбище — скромное и непритязательное. Здесь сильно чувствуется иноземный дух; тут и обязательные гирлянды из иммортелей, навевающие погребальное настроение; и дешевые оловянные медальончики, украшенные тремя слезинками, похожими на знак трефовой масти; несообразность таких украшений окупается немудреной простотой надписей. На детских могилках здесь стоят ангелы-хранители с серьезными и важными лицами, и тут же, сзади, в стеклянных ящичках собраны игрушки малышей; здесь обычное множество ужасающих стихов собственного сочинения прихожан; но один стишок — на могиле моряка — поражает трогательностью высказанной надежды на спасение милостью «Лорда Верховного адмирала Христа». Над могилами иноземцев надписей значительно меньше, но зато в них заметна, я бы сказал, большая чувствительность и проникновенность. Я невольно думаю, что слишком многие из моих соотечественников пытаются воспользоваться надгробной надписью, чтобы в этом последнем жесте по отношению к умершему выразить все чувства, в которых они отказывали ему при жизни. Но при виде блеклых иммортелей, украшающих надгробную плиту, я понимаю, что тайна воскресения запечатлена в этих невыразительных символах, и только любовь, которой нас учит его Новый Завет, увековечена в письменах. Впрочем, «все это куда лучше умеют делать во Франции».
Пока я бесцельно бродил вокруг миссии, солнце мало-помалу спускалось по бурой стене церкви, и стало холодно и сыро. Яркая зелень травы поблекла, и от стены протянулись бронзовые отсветы. Ивы склонились долу, словно сбрасывая свой пушистый наряд, и смотрят унылым олицетворением разбитой веры и обманутых надежд. Запах иммортелей смешивается с запахом ладана, струящимся из открытых окон. А в самой часовне варварская позолота и пурпур в безжалостном свете сумерек выглядят холодно и безвкусно. Сейчас часовня и впрямь кажется ветхой и безобразной. И мнится мне, что если души предков вздумают посетить тот уголок земли, где они когда-то жили и трудились, вряд ли будут они с высот иного мира сетовать о неотвратимых переменах и оплакивать день, когда миссия Долорес окончит свое существование.
Перевод М. Баранович
ДОМА, В КОТОРЫХ Я ЖИЛ
I
Однажды мы выбрали квартиру только потому, что там был балкон-фонарь, искупавший в наших глазах все недостатки и неудобства этого жилища. Когда дымили трубы; когда усыхали или набухали двери, так что их никакими силами нельзя было открыть, или когда, наоборот, они сами, словно по волшебству, распахивались; когда в дождливую погоду на потолке появлялись подозрительные пятна, — во всех этих неприятностях нам служил утешением балкон-фонарь. Вид из него был действительно великолепный. Беспокойная, вечно меняющаяся водная гладь расстилалась перед нами, блестя на солнце, темнея в тени скал или разбиваясь игрушечными волнами на крошечном берегу внизу, а вдали четко вырисовывались Алкатрац, Лайм-Пойнт, Форт-Пойнт и Сауселито.
Хотя поначалу балкон-фонарь был отведен мне в неприкосновенную собственность и я расположился в нем со своей работой, мало-помалу, следуя некоему закону природы, он превратился в место отдыха для всей семьи. В один прекрасный день туда были водворены кресло-качалка и корзинка с рукоделием. Затем на балкон вторгся наш малыш и забаррикадировался мотками цветных ниток и размотавшейся шерстью так, что только дружной атакой всего семейства его удалось извлечь из засады и, плачущего, взять в плен. Всякий вступавший на балкон начинал испытывать действие его волшебных чар. О серьезной работе нечего было и думать. Подплывавший пароход, блики на воде, окутавшее вершину горы облако неизменно отвлекали внимание. Читали вы или писали, за стеклами фонаря всегда оказывалось что-нибудь интересное. Зрелища, открывавшиеся с балкона, были, к несчастью, не всегда приятными, но независимо от этого обрамление широкого окна сообщало всему одинаковую значительность и живописность.
Окружавший ландшафт нельзя было назвать сельским, хотя по соседству с нами жилых домов почти не было. Кирпич и цемент не успели окончательно завладеть землей, где, судя по всему, еще совсем недавно зеленели дубравы. С одной стороны горизонт загораживал вытрезвительный дом — сам по себе довольно мрачный и служащий по-своему красноречивым назиданием как последнее пристанище на некоем пути. Восторженные члены моего семейства, откровенно рассчитывавшие увидеть там в окнах шумных обитателей в разных стадиях опьянения, запечатленных покойным У. Е. Бертоном, были крайне разочарованы. Упомянутое заведение не обнаруживало своих тайн. Местная больница, также видневшаяся с нашего балкона, являла собой куда более оживленное зрелище. В определенные часы дня мы видели, как выздоравливающие выходили на прогулку. Картина эта была особенно удручающей из-за полного отсутствия какого бы то ни было общения между ними. Каждый был окутан непроницаемой атмосферой собственных страданий. Они ходили порознь и никогда не разговаривали. Мне случалось наблюдать из окна, как несколько больных, прислонившись к стене, грелись на солнышке меньше чем в полуметре друг от друга и совершенно не замечали друг друга. Если бы они по крайней мере ссорились или дрались, — все было бы лучше, чем эта чудовищная апатия.