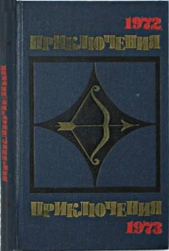Приключения-75

Приключения-75 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вдруг он почувствовал легкий толчок в спину, будто кто поддел его на ходу, а потом ощутил, как кожа на геле покрывается мелкими колючими пупырышами, пупырыши эти покрывают его с головы до пят, мерзко щекочут лицо.
Случилось самое страшное, что только могло случиться, — ледник двинулся вниз. Сейчас закупориваются старые трещины, вспухают, как пенка на кипящем молоке, и лопаются снеговые потолки бергшрундов... До его слуха донеслось громкое, застывшее на высокой ноте «а-а-а», он узнал голос — это кричал наверху Солодуха. Но Трубицын не думал в этот момент об опасности, не думал о себе — он засуетился, пробуя ледорубом поддеть клок насоновской куртки, потянуть к себе, куртка лопнула, под ней обнажился красно-клетчатый байковый рукав — Насонов поверх свитера, который очень берег, всегда надевал рубаху... В это время Трубицына потянули на веревке вверх, и он стал волчком вертеться на страховочном поясе, царапая ледорубом стенку, а потом ледоруб торчком застрял в трещине, та сжала его, древко ледоруба слабо хряпнуло, переломилось, будто спичка; щепки полетели вниз; затем гулко ухнула металлическая болванка, и в трещине стало тесно. Трубицын чувствовал, как медленно смыкаются створки трещины, будто половинки огромной раковины, и, не веря в смерть — свою, чужую, чью бы то ни было, — запрокинул голову, увидел над собой ослепительное небо и красное блюдо только взошедшего солнца над хребтиной ледолома, увидел широко открытые рты и белые от страха и внутренней боли глаза Солодухи и Кононова, и понял, что Насонова уже не спасти. Ледник скрежетал, словно живой; ухал пушечно, раскалывался лед; змеино шевелилась арбузно-полосатая морена; как солдаты, сбитые очередью, падали торосы-«жандармы».
Потом трещина перестала звенеть и двигаться, но звук не смолк — долго еще грохотал ледник, заставляя содрогаться горы, и куржавились, будто дымом покрытые, лавины...
Трубицын лежал на спине и не мигая смотрел в небо, в расплавленный, полыхающий огнем круглый ком солнца, и лицо его было мокрым от слез и пота, соль жгла, разъедала глаза, но Трубицын не жмурился, не смыкал век — он не чувствовал боли...
Он потерял счет времени и очнулся, когда над ним склонился Кононов. И Трубицын протер кулаком глаза, потом, не глядя, захватил в руку ком снега, провел им по вискам, щеке, губам. Кононов был бледен, губы вспухли, выделяясь резкой чернотой на лице, глаза — тусклые, без жизни и тепла.
Кононов разлепил губы, дохнул табаком:
— Уходить надо. Насонову уже не поможешь. Ничем. На «песок» уходить... Там вертолет.
Трубицын пошевелил головой, будто у него затекла шея, вяло откинул в сторону снежный катыш, закрыл глаза, и поплыла перед ним цветистая река, вся в красных с желтым проплешинах, и закружилась, словно у пьяного, голова.
— Ты понимаешь, что нам еще жить надо, — Кононов ожесточенно колотил себя по груди и кричал на весь ледник, на все горы, на всю округу какие-то пустые и теперь уже ничего не значащие слова.
Трубицын поелозил затылком по снегу и, когда река перестала цветиться, перестали мельтешить в глазах плешины, сказал тихо:
— Нет.
Он пришел в себя оттого, что Кононов тряс его за отвороты куртки. Трубицын приподнялся на снегу, огляделся. У палатки стояло два рюкзака, на пятачке перед пологом блестел алюминиевым телом керогаз, лежала скатанная в бухту веревка.
— Ты идешь? — спросил Кононов, и по лицу его было видно, что этот вопрос он задавал Трубицыну уже много раз, но Трубицын, отключенный, не слышал вопроса, не реагировал на него, и Кононов терялся, не зная, как вести себя.
— Ты, Кононов, — Трубицын запнулся на слове, пытаясь подобрать определение, кем же является Кононов, закашлялся, сплюнул на снег. — Сволочь. И ты, Солодуха... Ты тоже сволочь. Бросить человека, а?
— Насонова не достать, — тупо пробормотал Кононов, провел рукой по горлу, — и мы в этом не виноваты. А если останемся... Да какой там останемся — нам же нечего есть! Ты понимаешь, есть, жрать нечего! Даже нюхать нечего.
— Уходите, — сказал Трубицын.
— Ладно, Трубицын, — зачастил вдруг Кононов, — мы уйдем, но мы сейчас же пришлем людей за тобой, за Насоновым. Люди придут сюда, Трубицын, придет спасгруппа...
Он поднялся и, пятясь задом, смотрел на Трубицына расширенными глазами. Потом он перешел на шепот, и Трубицын уже не мог расслышать, разобрать его слов.
— Ублюдки, — проговорил он сквозь зубы, затем подполз к трещине, заглянул в узкую пустоту, дышащую мерзлым снегом и льдом.
— Ублюдки, — еще раз повторил он. Мозг работал ясно и четко: Трубицын прикидывал, что можно сделать, чтобы достать из трещины Колькино тело, и горько кривил рот. Выход один — прорубаться к нему. На то, чтобы прорубиться, потребуется недели две-три... Эх, Колька!
Когда он выпрямился над трещиной, то увидел, как по боковой морене, прижатой к отвесной скальной стенке, шагают в связке два человека: впереди высокий и худой, сзади — пониже и поплотнее...
С тех пор каждый год на леднике появлялись двое в штормовках, триконях, с ледорубами и рюкзаками. Но дальше вертолетной площадки они не ходили. Хотя и пытались. Говорят, не пускают горы. Один раз им дорогу преградила лавина, другой раз — сель. Альпинистские группы, идущие на восхождение, не берут их с собой. Побыв несколько дней на леднике, они возвращаются на «большую землю».
А в этом году не пришли совсем...
ЮРИЙ ЮША
Шквал
В ходовой рубке сейнера «Олым» раздался сигнал, похожий на мелодичный звон серебряного колокольчика. Он означал, что капитан Шрамко перевел ручку машинного телеграфа, давая судну ход. Матрос-рулевой Крошкин, которого на «Олыме» все звали просто Крохой, увидел, что стрелка телеграфа перескочила с отметки «стоп» на отметку «самый полный вперед». Такой резкий рывок означал нечто чрезвычайное. Матрос проворно бросился к штурвалу и вцепился него, точно голодный пес в кинутую ему кость, выжидательно повернув голову в сторону высокой, плечистой фигуры капитана.
— Видишь шлюпку?
— Не-а, потерял, — сказал Кроха и стал напряженно шарить взглядом в сонмище волн, отороченных кипенью белой пены.
— И я потерял. А ведь только что видел, — с этими словами капитан наклонился к картушке компаса и прицелился пеленгатором на ведомую лишь ему одному точку горизонта. — Так держать!
Кроха засек курс и ловко вывел на него кренящееся и зарывающееся носом в волне судно.
Василий Степанович Шрамко опустил вниз осыпаемую водяными брызгами створку окна и высунулся наружу чуть не до пояса, пристально всматриваясь в даль. В рубку ворвался многоголосый рев шторма. Ветер высвистывал в снастях свою тягучую, заунывную мелодию. Тяжелым, глухим набатом отдавались удары волн о нос корабля. После каждой новой волны мелкой барабанной дробью рассыпалась по рубке туча брызг. Слышалось змеиное шипение воды, перекатывающейся по палубе, скрипел такелаж, и чудилось какое-то улюлюканье, завывание. Лязгала зубами-звеньями провисшая в клюзе якорь-цепь. Где-то под деревянным настилом рубочной палубы, а может быть под штурманским столом, громыхала, перекатываясь в такт качке, пустая жестяная банка.
«Все время забываю сказать старпому, чтобы нашли и выбросили эту проклятую жестянку», — машинально подумал капитан, вслушиваясь в привычные звуки все заглушающей штормовой многоголосицы. Однако, когда Кроха что есть мочи обрадованно завопил: «Вижу, вижу!» — капитан все же услышал его. Шрамко посмотрел по направлению вытянутой руки рулевого и увидел злополучную шлюпку. Она выскакивала на гребень волны, беспомощно дергалась, задирая то нос, то корму, и снова проваливалась между валами, словно в преисподнюю.
Вскоре полузатопленное утлое суденышко уже плясало под бортом застопорившего ход «Олыма». В шлюпке был человек. Ему бросили с палубы конец троса с гаком. Человек, неуклюже перескакивая через банки, пробрался на нос шлюпки и зацепил гак за железное кольцо. Но гак вдруг сорвался в воду. Пришлось трос вытягивать на палубу и снова подавать на шлюпку.