Ленька Охнарь (ред. 1969 года)
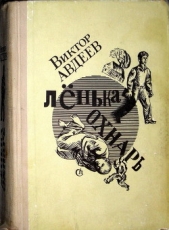
Ленька Охнарь (ред. 1969 года) читать книгу онлайн
Книга включает в себя все пять повестей о днях скитаний и жизни беспризорного мальчишки Леньки Осокина: "Асфальтовый котел", " Дом в переулке", "Трудовая колония", " Городок на Донце", " Дорога в Сокольники". Повесть "Дом в переулке" печатается впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Понемногу Охнарю стало известно, какой случай забросил его сотоварищей в Самару, свел вместе. Правда, сведения были отрывочные, туманные, да Ленька и не допытывался. Он помнил совет Химика: «Не выпытывать». У каждого вора было достаточно причин, чтобы скрывать свое неблаговидное прошлое. Излишнее любопытство в этом мире воспринималось с подозрением; довольствуйся тем, что тебе скажут (большею частью соврут), а не веришь — катись к черту!
Так, из случайных разговоров, намеков Охнарь узнал, что «старшой» Клим Двужильный добрую половину своей жизни провел по тюрьмам, этапам, в ссылке, бывал на самом Соколином острове, бежал оттуда, прошел через всю дикую забайкальскую тайгу. По старым судимостям за ним числился «должок» в шестьдесят с лишним лет, которые Двужильный «не досидел» в заключении. Бросив якорь в Самаре, он нашел себе подругу — Маньку Дорогую.
О Маньке, как и о всех остальных, шайка должна была довольствоваться теми сведениями, какие она сама сообщила. Себя Манька называла украинкой из Золотоноши. Отец ее был там начальником станции. В год революции его расстреляли дезертиры за то, что не дал вовремя паровоза под состав, — так она и осиротела. Просвирня же шепотком передавала, что красавица Манька, под кличкой Дорогая, давно была известна среди самарских воровок. В девичестве ее изнасиловал богатый галантерейщик, затем она сбежала из дома с вором-домушником, который вскоре сел в тюрьму. Снимала квартиру, принимала «гостей»; подмешала порцию мышьяка старику ювелиру, попала под суд, но была освобождена «за неимением улик». (Передавали, будто она сумела влюбить в себя прокурора, и он смягчил факты.) После этого Манька жила в содержанках, якобы даже опускалась до панели, откуда ее Двужильный и подцепил.
Первым Двужильный, собирая шайку, нашел Калымщика. Говорили, что Клим спас его от смерти, выхватив из толпы самосудчиков. Калымщик готов был по его слову убить любого человека. В Самаре он появился неведомо откуда и то выдавал себя за охотского рыбака, то за алданского золотоискателя. В доме, как всегда, делали вид, что принимают его слова за чистую монету.
Сведения о Хряке считались доподлинными. Отец его имел мельницу под Сарапулем, лавку с красным товаром и держал в руках всю волость. Был он то ли хлыстовец, то ли баптист, имел тайную молельню, не терпел табака, строго соблюдал посты и наотрез отказался отдать детей в школу, «чтобы не погрязли в разврате». Когда пришли совдепчики, мужики сожгли своего богатея, а Фомка Хряк сбежал и околачивался на пристани с грузчиками и босяками. Тут его и подобрал Клим Двужильный. «Силой богат, умом беден: будет ходить как по ниточке. Любой узел донесёт».
Случайно же, на вокзале, «старшой» встретил и Модьку Химика. Опытным глазом он сразу признал в нем вора, подбивавшегося под кошелек проезжего в чесучовом пальто и золотом пенсне. Когда, вытащив деньги, Модька направился в город, Двужильный положил ему руку на плечо, одобрительно сказал: «Хорошо работаешь. Гастролер? Идем раздавим бутылочку, я угощаю». Так Модька попал в хевру.
О Глашке Маникюрщице говорили мало: то ли считали незначительным лицом, то ли никого не интересовала. Глашка, единственная из всех, ничего о себе не скрывала. Отец ее был белым офицером, мать умерла в отступлении от сыпного тифа, девочку подобрала бугурусланская торговка. Шестнадцати лет Глашка забеременела от однолетка со своего двора, ребенка подбросила на крыльцо в родильный дом, а сама вскоре очутилась в Самаре у «дальней родственницы», содержавшей тайный публичный дом.
Совсем по-разному рассказывали о молодости Просвирни. То ли в девичестве она постриглась в монастырь да ее похитил проезжий балаганный борец, то ли служила в прислугах, была соблазнена «паном» и выдана им в слободу за мещанина. Овдовев, Просвирня получила от мужа в наследство этот дом. После революции, чтобы чем-то жить, она стала пускать квартирантов, развела огород, торговала на городском базаре огурчиками, редисом. Двужильный снял у нее комнату. Он часто угощал хозяйку вином, дорогими закусками, дарил то платок, то отрез ситца на платье; Просвирня взахлеб расхваливала соседям новых жильцов. «Законная супруга» квартиранта Манька Дорогая, поняв жадную, хищную натуру хозяйки, втянула ее в свои темные дела.
Просвирня согласилась уступить им все помещение, оставив себе каморку, стряпала, убирала, начала потихоньку перепродавать краденое. Двужильный, собиравшийся раньше купить этот очень удобный по своему месторасположению дом и завести свою «хозяйку малины», отказался от этой мысли: с новой притонодержательницей было и дешевле и удобней.
Переулок не подозревал, кем на самом деле были жильцы Просвирни. Поселились в разное время люди, да и все. Двужильный выдавал себя за коммерсанта: мало ли в начале двадцатых годов таких появилось в России? Модька был его племянником, готовившимся в институт. Хряк говорил всем, что он агент-снабженец. Калымщик — мастер по копчению, засолке рыбы. (Рыбу он действительно мог приготовить превосходно.) Жены вели хозяйство.
К ним заглядывал разный люд, веселились. А кому это запрещено? Жильцы Просвирни и сами не чурались соседей: заходили в гости, принимали у себя человек по восемь сразу. Тогда велись степенные беседы о ценах на пшеницу, кожи, о вероломном убийстве Воровского в Лозанне, о начавшем входить в моду футболе, умеренно пили вино, плясали.
Не могли от Охнаря остаться скрытыми и отношения «квартирантов» между собой. По опыту беспризорных скитаний он знал, что там, где всем грозит одна и та же опасность, люди дружнее сплачиваются плечом к плечу. Он видел, что все ворье уважало Двужильного за железную волю, смелость, хватку, слушалось; Двужильный являлся тем цементом, который скреплял всех воедино. Манька Дорогая относилась и к женщинам и к мужчинам свысока, надменно и только беспрекословно слушалась мужа, да и ему нет-нет дарила в спину взгляды, которым бы он не обрадовался. Если Глашка Маникюрщица могла когда и подмести комнаты, и постирать за собой, и накрыть на стол, то Манька рук ни обо что не пачкала и держалась барыней, подлинной хозяйкой.
Заметил Ленька и то, что Глашка никогда не разговаривала с Хряком, глядела как бы сквозь него и не скрывала брезгливости к мужу — Галсану, хотя ему ни в чем не прекословил. Хряк всегда смотрел на нее виноватым и жадным взглядом, не раз что-то шептал вслед, кусал губы. Калымщика ж терпеть не мог, весь ощетинивался. Леньке они напоминали двух псов разной породы, вынужденных жить на одном дворе. «Втрескался в Глашку? размышлял он. — Ревнует? Но за что она на Фомку зуб держит?» Он сам знал, кому из двух мужчин больше сочувствует. Если бы Хряк отбил у монгола Маникюрщицу, посмотреть было бы интересно.
Самым веселым в доме был Модька Химик. Он то и дело приносил притон разные книжки, которые сам и поглощал, завалившись с ногами на диван. Выступал в роли иллюзиониста, ловко, неуловимо манипулируя папиросами, лентами; знал множество карточных фокусов. По словам Модьки, он когда-то был студентом Томского университета. «Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой», — любил добавлять он.
В противоположность Модьке, Хряк с трудом каракулями выводил свою фамилию. Охнарю пришлось под его диктовку писать письмо к вдовушке, торговавшей в городе квасом, марафетом, маковниками. Начиналось оно так:
— «Любезная нам Матрена Яковлевна, драгоценная Матреша. К вам с приветом Фомушка Щупахин, ваш кавалер. Еще шлю я тебе низкий поклон, пупсик, и свою любовь до гробу. Матрена Яковлевна, я не могу минуточки, чтобы не скучать по вас, и шлю свое горячее здравствуйте». И так на две страницы. Лишь в конце письма сообщалось, что Хряк приглашает свою перезрелую даму в кинематограф.
Вернувшись однажды под утро от любовницы, Хряк, по обыкновению, со всеми подробностями расписал, как провел с ней ночку. Ненадолго задумался, потом, словно размышляя, сказал:
— Все подбиваюсь к ее «затырке». Есть же у нее иде-нибудь в чулке под половицей? На икону крестится, будто до копейки в торговлишку вложила. Брешет небось? Знайти б. Уж я сумел бы подыскать этому сармаку местечко в своем кармане. А там помахал бы ей издаля ручкой. Искать зачнет? Так бы обнял, что и дышать перестала, шкуреха.

























