Ленька Охнарь (ред. 1969 года)
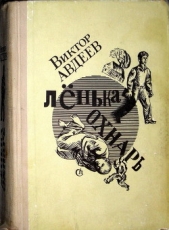
Ленька Охнарь (ред. 1969 года) читать книгу онлайн
Книга включает в себя все пять повестей о днях скитаний и жизни беспризорного мальчишки Леньки Осокина: "Асфальтовый котел", " Дом в переулке", "Трудовая колония", " Городок на Донце", " Дорога в Сокольники". Повесть "Дом в переулке" печатается впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Водка ли подействовала на огольцов или общая страсть к собиранию картинок, а может, просто в этой компании взрослых оба почувствовали себя ближе друг к другу, но только они разговорились.
— Ты киевский сам? — спросил Ленька.
— Откуда я знаю? — не сразу, безразлично и по-прежнему вяло ответил Червончик. — Бездомный я. Отца вовсе не видал и не понимаю, какого он звания. Мать гулящая была. Ее помню трошки. Пьяненькая, и завсегда какой-нибудь гость у нас в подвале. Где она, сучка, померла — не знаю: в больнице ль, а то под забором. Революция как раз была, в городе стреляли. В чужих людях стал жить, у соседа. Он посылал меня побираться. Не принесу кусков добрых, денег — лупит шпандырем, колодками в голову кидает: сапожник он. А после продал меня старому вору дяде Климу.
— Как продал? — не понял Ленька.
— Да так, — не повышая голоса, равнодушно ответил Червончик. — Не знаешь, как продают? Дал ему дядя Клим сколько-то денег, сала два куска и забрал меня до себя на квартиру. «Теперь, говорит, Васька, ты мой, все одно как вот этот щененок. Так что могу спокойным делом задавить, а могу позволить дышать. Сполняй все, что прикажу, — в таком разе не обижу». Скокарь был дядя Клим: по квартирам ударял. Меня приспособил в форточки лазить. Видишь, какой я тощий? После, в голод, на деле погорел. Самосудом его народ кончил.
Не спит ли уж он, Ленька? Неужто в самом деле такое может быть на свете? Э, да шпана и «на воле» и в «малинах» совсем по-другому живет, чем остальная Россия. Он спросил с острым интересом:
— Никогда ты, Вась, не засыпался?
— Два раза сидел, — ответил Червончик. — Один раз с камеры бежал. Пофартило. Второй раз в Николаеве судили, прошел по малолетке[8], «Задков»[9] не нашли, дали год условно.
— Сколько ж тебе лет?
— Тринадцать.
— Брешешь? Я думал — десять.
«Все-таки чудной оголец Червончик, — подумал Ленька. — Но, видать, не злой».
Воры за столом шумели; взвизгивали девицы. Бардон совсем опьянел и сидел тяжело облокотясь на стол, свесив голову; густой маслянистый чуб закрывал его лицо чуть не до верхней губы. Из зала слышались дребезжащие звуки пианино, высокие разливы гармоники. От хозяина чайной вернулся Митрич, сразу заказал водку, пиво, новую закуску. На колени к нему со смехом села толстобровая девица — крутобедрая, в мужской кепке на коротко подрезанных волосах. Глиста задержался в зале, сунул музыкантам пятерку, потребовал свою любимую песню — «Клавочку». Угасавшее веселье закрутилось с новой силой. Воры и их подруги стали плясать.
— Слышь, Червончик, — спросил Ленька, — хозяин чайной тоже у вас в шайке?
— Вот что, оголец, — вдруг тихо, но с какой-то беспощадной жестокостью сказал маленький вор.— Ты лучше позабудь все, что тут видел. Запомнил? Сболтнешь слово — пришьют наши в темном переулке. От них не скроешься.
Небольшие глаза его глянули тускло, тяжело, совсем трезво, детское выражение исчезло с губ и подбородка, и он опять превратился в маленького старичка.
По Ленькиной спине пробежала дрожь, ему вдруг стало холодно.
Неожиданно Червончик сказал просто, равнодушно, словно продолжая начатый разговор:
Чего хозяину воровать, когда он в заведении деньгу зашибает? Просто барыга — скупщик краденого. Ребята наши все ему приносят... ну, понятно, дает он полцены, остальное себе за риск оставляет. В этом его фарт, тоже ведь погореть может. Барахло-то левое тут, в Киеве, не перепродашь. В другой город свезть надо.
Внезапно Бардон поднял чубатую голову, обвел всех мутным взглядом красных, говяжьих глаз, резко взмахнул рукой в татуировке. На пол полетели две ближние бутылки, пепельница, тарелки с закусками, рюмки. Жалобно зазвенело бьющееся стекло. Вор вскочил, рванул на себе пиджак, дико крикнул:
— Продать хотите? Легавых навести? Порежу гадов. .. в руки тепленьким не дамся.
Соседка его взвизгнула, отскочила. Ближние воры схватили Бардона за плечи, локти, стали успокаивать. Поднялась возня, опрокинули стул. Бардон пытался разбросать всех, страшно скрипел зубами: казалось, вот-вот зубы у него раскрошатся. Кто-то заблаговременно успел вынуть у него из-за пояса посеребренный кинжал в красных сафьяновых ножнах.
Ленька слегка перетрусил: не его ли Бардон подозревает в том, что хочет «продать легавым»? Чего это он все на него пялится? Червончик предупреждал; смотри не сболтни — зарежут. Хмель вылетел у Леньки из головы, он неприметно поднялся, вышел за портьеру: лучше в зале переждать свалку.
XVI
На эстраде никого не было. Гармониста и певицу за столиком у окна угощала какая-то веселая компания из трех мужчин. Пианист, облокотясь, стоял у стойки и с деланным равнодушием косился на своих товарищей: его почему-то не пригласили.
— А ты... откуда здесь взялся? — На Леньку наскочил потный официант с поднявшимся, словно перо; клоком волос на затылке, смерил ошалелым, подозрительным взглядом. — Ну-ка, выметайся.
— Чего ты? Я вот тут... товарищ у меня один...
Официант схватил Леньку за шиворот, подтащил к двери и ловким ударом под зад выставил за порог.
— Катись дальше. Надоела шпанка проклятая. Тут тебе не ночлежка и не собесовская столовая.
— У, паразит! Чаевая побирушка.
Со всего маху ударив ногой в дверь, оголец отбежал на другую сторону улицы, остановился под фонарем. В «номере» Ленька отогрелся, немного даже разомлел; сейчас его стала пробирать промозглая сырость. Он прогуливался по тротуару, поглядывая на освещенные окна «Уюта», а устав, прислонился к фонарному столбу. Кто его знает, долго ли Червончик пробудет в чайной? Ладно, лучше он, Ленька, завтра днем сюда заглянет. А то очень уж зябко. Но где ж переночевать? Теперь уж к большевику Ивану Андреевичу не вернешься. Кинжал — тю-тю, уплыл.
Сунув руки в карманы, поеживаясь, Ленька тронулся к центру города. Опять будет он до рассвета бродить около вокзала, дремать на холодной бульварной лавочке, покрытой облетающей листвой, потом надсадно бухать.
Фонари пошли чаще. Вот и залитый огнями Крещатик. От нечего делать Ленька останавливался у сияющих зеркальных витрин гастрономических магазинов, кондитерских, рассматривал поедающим взглядом зарумяненные окорока, мясистую, похожую на тающий снег белорыбицу, кетовую, в налитых ядрышках икру, огромные закопченные белоглазые колбасы, янтарные, испускающие тончайший аромат яблоки, затейливые торты, выложенные розовым кремом, облитые сахарной глазурью, орехи, шоколадки в царской золоченой обертке. Рот наполнялся тягучей слюной, в животе подводило; Неужели есть люди, которые могут досыта наедаться этой жирной снедью, волшебными лакомствами?
Да, такие люди были. Вокруг Леньки, брезгливо обходя его, сновала шумная, нарядная, счастливая толпа. По мостовой неслись кровные рысаки, запряженные в лаковые фаэтоны на дутых шинах; в них, важно развалясь, сидели гладкие, самоуверенные мужчины в дорогих пальто, шляпах, холеные, раскормленные, надушенные красавицы в мерцающих мехах — новая знать, нэпманы, толстосумы. Парами с наигранным смехом проходили накрашенные девчонки в коротких юбочках, останавливали богато одетых гуляк, достав папиросу, игриво просили: «Огонек есть? Разрешите заразиться». И начиналась торговля любовью.
Мальчишки с ящиками, привязанными через плечо, бойко предлагали папиросы, ириски. Выпятив грудь, не теряя военной осанки, этот водоворот прорезали командиры в шинелях с алыми петлицами; спокойно, уверенно, с видом хозяев шли рабочие в больших грубых ботинках. Перед кинотеатрами в глаза били громадные афиши, расцвеченные рамками электрических лампочек. С афиш на толпившуюся вокруг публику прыгали желто-полосатые леопарды с красной разинутой пастью; целились из револьвера бандиты в масках и цилиндрах; куда-то на вздыбленных конях неслись ковбои, держа наготове лассо, и щедрыми сгустками лилась обесцененная людская кровь. Веселый гул, цокот подков, обрывки музыки, вырывающейся из ресторанов, витали над главной улицей.

























