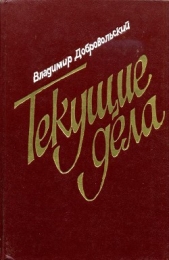Золото (илл. Р. Гершаника)

Золото (илл. Р. Гершаника) читать книгу онлайн
В начале войны в банк приграничного городка перед самым приходом немцев поступают огромные ценности. Между тем, в эвакуированном банке остались лишь двое сотрудников — старый кассир и юная машинистка. Они решаются на почти невозможное: вынести золото с оккупированной территории…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А вы поплачьте — легче будет. Немало слез сейчас земля принимает… А жить-то надо, надо жить, девушка!
«Где же, где я ее видела?» — снова подумала Муся, смотря во все глаза на свою новую знакомую.


Часть вторая
1
Муся никогда не встречала Матрены Никитичны Рубцовой до того самого дня, пока судьба военного лихолетья неожиданно не столкнула их на лесной поляне у раскрытой могилы Митрофана Ильича. Но первое впечатление не обмануло девушку. Она действительно не раз видела это красивое, строгое лицо, дышащее спокойной энергией, но видела не в жизни, а на фотографиях в газетах и журналах. Если бы Муся в минуту их встречи не была так потрясена, она, несомненно, вспомнила бы и фамилию и имя незнакомки, так как знатная животноводка Матрена Рубцова была известна не только в тех краях, где жила Муся, но и по всему Советскому Союзу.
Фоторепортеры местных и столичных газет, частенько навещавшие «Красный пахарь», любили ее снимать. Фотоэтюд, на котором Матрена Никитична, прижимавшая к себе две пестрые телячьи мордочки, была сфотографирована в развевающейся по ветру шали на фоне тонких берез, радостная, вся точно искрящаяся молодым весельем, получил золотую медаль на международном конкурсе. Снимок этот в увеличенном виде был издан приложением к известному иллюстрированному журналу, и с той поры портрет колхозной красавицы с телятами, образ которой как бы символизировал собою новую деревню, можно было видеть в предвоенные годы и в крестьянском доме, и в рабочей квартире, и в клубе, и в избе-читальне.
К своей громкой трудовой славе Матрена Никитична пришла не сразу. Не прост и не легок был ее сравнительно еще короткий жизненный путь.
Мать Рубцовой, крестьянская сирота, воспитанная сердобольными соседями, была почти девочкой против воли сосватана за пожилого бобыля, батрачившего у помещика. У нее не было ничего, кроме молодости, редкой красоты да не знавших устали рабочих рук. У ее мужа была ветхая пустая избенка с поросшей зеленым мхом крышей, догнивавшая у околицы большого торгового села. Это был горюн-неудачник, не злой, но хмурый, неразговорчивый человек, давно отчаявшийся выбиться в люди. Матрена отца не помнила. Он замерз в поле, захваченный метелью в своей ветхой, рваной одежонке на пути из барской усадьбы в село. Матрене минуло тогда три года, а ее братишку мать кормила еще грудью.
Не избалованная жизнью, крестьянка стойко перенесла и это горе. Летом она неутомимо копалась на маленькой усадьбе за своей избой, помогала людям на сенокосе, на жнивье и молотьбе, а зимой ходила поденно трепать чужой лен, вязала на продажу варежки и этим кое-как кормила своих малышей. С трех с половиной лет Матрена оставалась нянькой при маленьком, а пяти уже помогала матери прясть и мотать шерсть. Земли у них не было. И долго, до самых зрелых лет, вспоминала Матрена, как в те далекие зимы, когда над заиндевевшей деревней в желтом морозном воздухе высоко поднимались неподвижные хвосты дымков, их избу совсем заметало. Сугробы надвигались на окна, наваливались на крыльцо, припирали дверь. Через дырявую крышу снег сеялся в сени, проникал в избу и узкой полоской ложился у входа. Ни один живой след не бороздил эти сугробы. Их никто не разгребал, не протаптывал.
Мать ютилась на печке, закрывая детей заплатанной, вытертой, лоснящейся шубой. От зари до глубокого вечера, а то и за полночь, при мерцающем свете чадной лучины, она все вязала, вязала, вязала, как казалось маленькой Мотре, все одну и ту же варежку с коричневым узором, выведенным пряжей, окрашенной в луковой шелухе. Дыхание вылетало у нее изо рта белым паром. Она отрывалась от кропотливой работы только затем, чтобы переменить лучину, засунутую меж кирпичами печной трубы, погреть у себя подмышками заледеневшие пальцы. Часто ее схватывал хриплый кашель, такой тяжелый и надсадный, что детям казалось, будто что-то лопается у нее в груди.
Весной, когда снег сгоняло и под окнами смолкала тяжелая капель, а на старой вербе, что росла на огороде, начинали отчаянно гомонить грачи, Мотря помогала матери копаться на усадьбе во влажной земле, отдающей теплом, сыростью и острым запахом прелого навоза. Это была самая счастливая пора. Мать, помолодевшая, похорошевшая, с неестественно ярким румянцем, разлитым по смуглым щекам, ловко действовала старой лопатой. Мотря и маленький Колька разбивали слежавшиеся комья земли, выбирали коренья сорняков с высоких гряд, взбитых, точно пуховики. Возбужденно, по-весеннему орали грачи, восстанавливая свои поврежденные вьюгами гнезда, солнышко грело, прозрачная дымка колебалась над черной влажной землей. И вдруг мать принималась кашлять, лопата вываливалась у нее из рук, и она бессильно опускалась на землю, покрытую бурой, прошлогодней травой. Откашлявшись, мать сплевывала кровью куда-нибудь подальше в сторону. Девочке становилось жутко.
Иногда, поднявшись на заре, когда их сверстники еще спали, Мотря с Колькой, захватив ведерко, отправлялись по селу собирать навоз для огорода. Они старались управиться до того, как погонят стадо. Но навозу было нужно много, приходилось ходить и днем, и тогда крестьянская детвора бегала за ними, кидала в них сухие конские яблоки и кричала на все лады: «Навозные побирушки! Чахоткины дети!»
«Навозные побирушки» — это было еще терпимо, но «чахоткины дети» — это касалось матери. И тут иной раз тихая, застенчивая Мотря не выдерживала обиды, хватала первый попавшийся под руку камень-голыш, осколки кирпича или палку и с плачем бросалась на своих мучителей. Из дневных вылазок за навозом дети часто приходили с пустым ведром, избитые, исцарапанные, в слезах. Мать утешала их, смывала у колодца кровь, вздыхала и грустно повторяла все одну и ту же пословицу: «С сильным не дерись, с богатым не судись».
И хотя ребятам весь день приходилось копаться на огороде, собирать навоз, таскать из колодца воду для поливки, а когда мать уходила батрачить на чужой сенокос, то и самим поливать, полоть, подкармливать овощи, — летом все было нипочем. Поднималась молодая трава, в полях появлялась кислица, у заборов росла свежая крапива. Из крапивы и кислицы варили щи. Потом начинались ягоды, за ними шли грибы. Их можно было не только есть, но и продавать дачникам. Потом поспевали овощи. В эту пору даже в грустных, оттененных большими синими кругами глазах матери зажигались веселые искорки.
В иной погожий летний вечер, когда вместе с ленивым пением разомлевших на жаре петухов и стуком отбиваемых кос в избу через открытые крохотные окошки просовывались золотые снопы солнечных лучей, мать принималась расчесывать старым деревянным гребнем свои длинные волнистые косы, затем выкладывала их широким венцом на крупной, гордо посаженной голове и подолгу смотрела на свое отражение в радужно отливающем темном стекле. При этом она всегда пела одну и ту же грустную песню:
Мотря усаживалась у ее ног и мечтала, как вырастет она большая, как будет работать у господ, работать от зари до зари, как наживет она много денег и купят они козу, и будет у них молоко, которое так нужно для здоровья матери. Мать поправится, все вместе станут трудиться, поднимутся, починят крышу, купят стол, скамейки, будут жить как люди, и никто не посмеет дразнить ее и Кольку «чахоткиными детьми» и бросать в них конским навозом. А мать будет всегда такая же красивая, веселая, какой она бывает в эти редкие летние вечера. Главное — сколотить денег и купить козу. Соседка Агафья все время толкует, что жирное козье молоко в два счета поставит мать на ноги. Эта коза, казавшаяся избавительницей от всех бед, превратилась для девочки во что-то сказочное, как перо жар-птицы, как цветок Ивановой ночи.