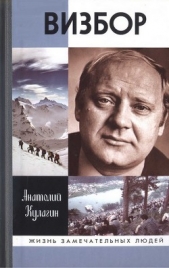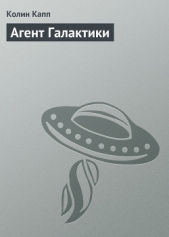Кто вынес приговор

Кто вынес приговор читать книгу онлайн
Действие повести "Кто вынес приговор" относится к 1924 - 1925 годам. Это было время, когда социалистическая торговля постепенно и неуклонно вытесняла с рынка частный капитал. Мир наживы сопротивлялся напору сил нового общества как мог, используя все средства.В книге показан один из эпизодов этой борьбы и участие в ней губернского уголовного розыска.К осени двадцать четвертого года накопилось немало данных, говорящих о том, что в городе существует и активно действует "черная биржа".Кто руководит так искусно частной торговлей, где та рука, что поддерживает ее, помогает процветанию местных нэпманов?В центре повести инспектор губернского уголовного розыска Костя Пахомов, знакомый читателям по предыдущим книгам А. Грачева "Уроки агенту розыска" и "Выявить и задержать".В своей работе автор использовал материалы Государственного архива по Ярославской области, судебные дела двадцатых годов и воспоминания ветеранов милиции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
44
Синягин сразу признался. Он кутался в полы широкого халата и все почему–то оглядывался то на жену, то на дочь виноватыми, полными испуга глазами. Жена была молчалива, только заломленные пальцы выдавали волнение. Дочь же курила папиросу и была безразлична ко всему, что происходило. Ее больше интересовали морозные узоры на окнах, проглядывающие сквозь тюль. В комнатах еще чувствовался вчерашний праздник — в остатках винного духа, в расставленных в беспорядке стульях, в небрежно разбросанной одежде, в пятнах на паркете. — Вы знали, что мука ворованная? — спросил Костя, располагаясь за столом с листком бумаги. Синягин пожал плечами. — Я же сказал, — тихо пробормотал он, приглаживая плешины на тяжелой голове. — Пришел вчера этот, — указал он на Горбуна, сидевшего в углу за спиной Ивана Грахова. — Сказал, что можно ехать за мукой, если есть нужда… — А откуда эта мука у него, вы не подумали? Синягин посмотрел на жену, точно у нее просил ответа. — У меня провал с торговлей, приходится не думать, а покупать… — Мука–то ворованная, — перебил его сердито Костя. — Со склада «Хлебопродукт». — Пришлось бы закрывать дело, — вздохнул Синягин, снова пряча руки в рукава, качая горестно головой. — Кто дал команду очистить склад? — обернулся Костя к Горбуну. Тот всплеснул руками, засмеялся тихо: — Сказал же в который раз, гражданин инспектор. Приехал парень, привез муку. Мол, храни ее, а не будет меня, продай кому–нито из булочников. Его не было три дня, ну вот я и пошел к булочнику. Ослушаться налетчиков нельзя… Прирежут, не приведи господь. Он опустил голову, пожевал по–лошадиному губами. Синягин поворочался на стуле, вздохнул, как простонал: — Вот те и новый, двадцать пятый год… Костя записал в протокол показания Горбуна и Синягина. Потом, оставив в комнате Грахова, пошел осматривать дом. В буфете тоже все было сдвинуто, сметено, точно плясали здесь весь вечер. Поблескивали в ряд выстроенные самовары, поблескивали вазочки. В магазинчике на полках было пусто, и Синягин, шаркающий сзади, сказал: — Вот видите — нечем было торговать. Да если бы нам разрешали покупать где–то зерно открыто, разве бы стали мы принимать товар из нечистых рук. Костя не ответил, спустился по лестнице, постучав в дверь чуланчика, открыл ее. На кровати сидела в пальто, в платке Поля, в другом углу — одетая в ватник женщина, та самая, что спрашивала его у баньки. Глаза у Поли были полны испуга. Вот как может быть — только что провожались и опять встретились. Он так подумал, но промолчал. Хотел было улыбнуться, но не решился. Не кавалер он, а милиция сейчас, да еще с обыском. — Извините за беспокойство, — проговорил негромко. В пекарне тоже все сбились в кучу: приказчик, пекарь, сторож. Хмельные, видно, потому что смотрели отупело и удивленно. Пекарь с засученными по локоть рукавами спросил: — Коль здесь муку ищете, граждане милиция, не найдете. Кончилась. Тогда Костя вернулся снова наверх, в комнату, где было так же тихо и покойно. Горбун казался дремлющим. Грахов все стоял, точно солдат на посту. И все так же безостановочно пускала кольца дыма дочь булочника, откинув на сторону светлые волосы. — Где покупали раньше муку? Синягин ответил не сразу: — Когда где… В Поволжье… В Самарской губернии чаще… А то в Петрограде… Бывало, из Москвы. Сейчас закуплена в Омске, но нет ей ходу. — Заносится приход в книги? Булочник осел на стул, помолчал, сделал вид, что не слышал слов. Костя оглянулся на него, снова задал вопрос: — Книга есть у вас денежная, разборная? Полагается, согласно кодексу по труду, частникам держать такие книги, нанимать бухгалтеров… Тогда булочник поднялся, открыл дверцу шкафчика, вынул тяжелую, с толстыми, как у библии, корками книгу. Перевернув несколько страниц, Костя увидел фамилию Трубышева, рядом с ней стояли цифры. — Что это такое? — спросил он, подняв голову. — Как к вам попал в книгу кассир с фабрики? Синягин, и жена его, и дочь как–то сразу невольно двинулись, точно вопрос инспектора ожег их. — Бывает, что помогает нам, — признался Синягин. — Дает в долг деньги. — За так? — За три процента комиссионных. В неделю три процента, а если залежка товара на месяц, то и все шесть… — Здорово! — так и воскликнул Костя. Имели агенты разные способы поиска преступника. Нарывался он на ловушки, выводили его с базара с «голубями», бельем, значит, снятым где–то с веревок на чердаке, находила по следу собака Джек, отыскивали по отпечаткам пальцев. Здесь улика была налицо, в книге. — Трубышев знает, что вы записываете эти долги? Синягин вдруг хлопнул себя ладонью по коленке. Ответила за него жена, с какой–то злобой глядя на мужа: — Старая привычка записывать расходы и приходы. От папы сохранил своего. Не мог без записей, Авдей Андреевич. Синягин пробормотал тоскливо: — Нет, Трубышев не знал о записях. Но как же не вести их, коль столько всяких покупок, столько расходов. Тут и мука, тут и рабочие, тут и пекари. И на всех расчет нужен… — Книгу мы с собой заберем, — проговорил Костя. — Приобщение к делу. «Приобщение» к делу» заставило вдруг зарыдать жену. Дочь погасила папиросу, сказала раздраженно: — Знали же, чем все это кончится. Связались с этим кассиром. Синягин, оглянувшись пугливо на нее, спросил Костю: — Что с нами будет теперь? — Привлечение уголовного лица, — поднялся Костя. — Торговать вам больше не дадим. Оставаться всем дома сегодня, — приказал он. — Никому не сообщать о проведенном обыске. Узнаем — пойдете за соучастие. Он передал книгу Грахову, сказал Горбуну: — Собирайся тоже! — Это за что меня, по какой статье? — А ты пойдешь под стражу, — сказал Костя. — Давно не видел решеток, соскучился по ним. Там и статью подыщем из кодекса. — Ах ты, бог мой, — простонал старик. — Вот ведь на старости бес кривой попутал. Что же, меня судить будут? — Пока для следствия нужен, — ответил Костя. — А что дальше, сказать не могу. Подымайся… Идя мимо двери в чуланку, он приостановился, прислушался. Тихо говорила та женщина, и Костя представил Полю: сидит все так же на кровати, окутавшись в платок, смотрит с испугом на дверь. Еще подумал, что она будет уволена вместе со всеми рабочими булочной. И снова уйдет в этот холодный безработный город со своей котомкой, искать пристанища, искать какую–то работу, чтобы только не быть голодной. Уйдет, если не помочь ей. Если не устроит он ее на табачную фабрику. Он должен устроить. Чтобы стояла она возле машины в красном платочке, чтобы веселой всегда была, чтобы училась, как советовал ей Саша Карасев…
45
На другой день Мухо приехал в Глазной переулок на санях нанятого извозчика. Он вошел в квартиру к Викентию Александровичу шумно, и не было вчерашнего Мухо, раздраженного, взмахивающего рукой. — Едемте–ка, Викентий Александрович, за Волгу в «Хуторок». Освежимся после званого ужина… Викентий Александрович попробовал было отказаться, сославшись на недомогание, но Мухо и слышать не хотел. — И потом, — вдруг сказал он уже тише, чтобы не слышали дочери в соседней комнате, — поговорить нам надо. Тогда нехотя Викентий Александрович напялил на себя шубу, морщась от хлестких ударов ветра, прошел к саням с извозчиком, дремлющим на козлах. — Давай, дядя, — приказал Мухо. — Гони вниз по матушке по Волге. Ах, черт, жаль только, бубенцов не подвесил ты под свою каурую. Волга в этот праздничный день была пустынна, и, шурша, вольготно неслась встречь поземка, обвивала ноги лошади — она фыркала, вскидывала голову, и тогда грива взлетала, как диковинное знамя. — В такую погоду, помню, уходили мы в Маньчжурию, — прокричал неожиданно Мухо, склоняясь к уху Викентия Александровича. — В восемнадцатом еще. Викентий Александрович быстро глянул на него. С чего бы это вдруг про свой маньчжурский поход? Уж не с Калмыковым ли? Мухо, отворачиваясь от ветра, опять склонился к уху: — Путешественником… Теперь Трубышев кивнул головой и, переводя разговор, спросил: — В Сибири метели долгие? — Да уж не как здесь… Мухо первым вылез из саней возле трактира. Первым и место занял за столом, в углу, в полутьме, пробивающейся сквозь тяжелые, зачерненные временем портьеры. Викентий Александрович в ожидании официанта зябко гладил руки, посматривал на двери кухни — не появится ли сам Иван Евграфович. Диву только можно было даваться, как он существует, этот трактир: в стороне от шумных улиц города, на другом берегу Волги, вдали от железной дороги. Обычный бревенчатый двухэтажный дом. Зал с высоким деревянным потолком, лестница на второй этаж, устланная дешевенькими половичками. Несколько колен коридоров, по обе стороны — номера, закопченные табаком, провонявшие овчинами, сеном, сивухой, одеколоном. В них, по большей части, ночевали приезжающие в город крестьяне с товаром, да захмелевшие крепко, да еще пары со случайной любовью. Из окон трактира был виден тракт — по нему тащились сани с дровами, с сеном, с корьем, тряслись за ними привязанные коровы. За бойней подымалась труба пивзавода «Северная богемия». Дымы, пропитанные хлебным духом, стлались над трактом, над бойней, над церковью. Возле церкви, на паперти, толкались просящие подаяния, тянулись туда жидкие хвосты прихожан слушать отпевание или же крестины, просто постоять по случаю крещенского праздника. За церковью начинались карьеры, хорошо видные из окон трактира — здесь город брал песок и глину для коммунальных нужд… Мухо навалился на спинку стула, под его грузным телом затрещало дерево. Вот он откинул густые волосы, уставился на Викентия Александровича. — А в Маньчжурию я попал с остатками отряда Гамова. Не слышали такого?.. У хунхузов жил одно время. В Харбине потом. Шитье там было жуткое… — Перебрались сюда, значит, в нэп, — язвительно заметил Викентий Александрович, подзывая к себе официанта. Заказали графинчик «рыковки» да для начала заливную рыбу. Есть еще не очень хотелось. — Нэп, — мрачно сказал Мухо, — это ловушка для простаков. Вот говорили о золотых яйцах. Мол, не резать пока куру, а я так и вижу — стоит мужичище во дворе у хлева, расставив ноги в валенках, с хлыстом метровым в руке, краснорожий, с цигаркой в зубах. А по двору носится выпущенный на волю телок, взлягивает, мякает. Прикидывает этот краснорожий одно только — до коих откармливать телка, до осени или до будущей весны, а потом сюда вот… Он мотнул головой на зеленые ворота бойни. — Нет уж, нэп не для нас… Пригнулся к столу, прошептал: — В общем, Викентий Александрович, решил я уехать на Восток. Попробую бежать за границу, авось повезет, как повезло тому же Шкулицкому. Знакомы места. Попаду в Китай, оттуда в Европу. Наши сейчас везде, рассеялись, как семена по миру. Встречу, думаю, бывших, помогут найти место, дадут дело… Трубышев оглянулся на шумящих за столиками посетителей, на официантов возле стойки, на буфетчика в узбекской тюбетейке, протиравшего полотенцем стаканы. Тянуло свиным чадом из подвального помещения, где находилась кухня. Иногда дверь в нее открывалась, и по ступеням шли официанты, как древние воины щитами, прикрывая головы подносами с тарелками. Сквозь приоткрытую дверь показывались на миг в кухне у плит повара, похожие на кочегаров у топок в трюме океанского парохода. — А здесь разве нет дела, Бронислав? — спросил Трубышев, разливая водку. — Почему всем вам надо, как Шкулицкому, бежать за границу. А впрочем, — воскликнул он тут со смехом, — наши добрые солдаты стали медузами. Да, — воскликнул он снова со злобным смехом, — именно медузами. Да какое там — кротами, приспособившимися к темноте. Пьем, жрем, гуляем, заводим доступных женщин… — Это кого вы имеете в виду? — Да в том числе и бывших офицеров, гарцевавших когда–то на Востоке, — резко отозвался Викентий Александрович, оглядываясь. — И это вместо того, чтобы думать о том, что закономерности ради в России должна была бы существовать наша с вами демократическая республика… — Но вы же говорили вчера еще, что вас устраивает Советская власть. Что жить можно… Викентий Александрович рассмеялся нервно. Помолчал, заговорил все так же, не теряя усмешки: — У меня настроение, как дензнаки, меняется. Плохо дело у Советов — я с надеждой живу, идет хорошо дело у Советов — я разбитый и больной. Оттого и мысли такие, и слова такие. Меняются каждый день. Оттого недоволен я такими вот, как вы, Мухо, умеющими стрелять, умеющими в атаки ходить… — Но что же делать? — изумленно воскликнул Мухо. — Может, нам строиться повзводно, маршировать, стрелять на полигонах из трехлинейки, тренироваться в порке мужиков или же вот сейчас, здесь, начать распевать «Карманьолу»? Трубышев рассмеялся фальшиво — сквозь зубы полаял, а не рассмеялся. Мухо даже попятился — так бешено блеснули в сумраке глаза кассира: — А надо бы… Повзводно, поротно или еще как там на языке военной шагистики. Время потому что и сейчас бурное. Ведь есть требование среди самих партийцев — создать в партии платформу, чтобы защищать мелкую буржуазию, а значит, частный капитал, частных торговцев… Почему же в это время мы, как мыши, шуршим бумагами. Да еще в «Бахусе» режем шары от двух бортов… Слышали, в Грузии восстали бывшие князья… — Но будет ли толк в новых мятежах? — проговорил Мухо, прислушиваясь к далекому, траурному звучанию колоколов церкви. — Вы же сами видели, сколько в восемнадцатом году пришло на баррикады. Со всех сторон собирались: на пароходах, на поездах, пешком под видом богомольцев, под видом странников и нищих… А не получилось, задушили, как котят. Будет ли толк? — повторил он угрюмо и раздраженно и поежился даже. — Что же, — ответил спокойно Трубышев, — хотите приспособиться за границей? — Я не собираюсь приспосабливаться, Викентий Александрович. Но сильна Красная Армия, насмотрелся на Урале. Да и народ устал хоронить. Не откликнется на наши «Союзы возрождения». Из–за границы надо идти. С Хорватом, или Врангелем, или с лордом Керзоном — это не имеет значения. С пушками английских дредноутов, с военным умом Пилсудского, с американским салом в ранцах, на подошвах американских ботинок… — Ничего, — прервал его нетерпеливо Трубышев, — и обыватель пойдет снова. Дай ему только сигнал. От скуки даже пойдет. Вы же знаете, чем живет мещанская слободка: «Вы поправились, а вы похудели, вы помолодели, а вы постарели, погода сегодня отменная, да еще что в магазине дают нонче». От скуки рты рвутся. От скуки и пойдут за ораторами и вождями… За такими, как Савинков… — За такими, как Савинков, только в тюрьму разве, — сказал Мухо. — Не жилось ему в Париже… Был я у одного нашего, сидели вместе в лагере. У поручика Веденяпина, — заговорил он снова сумрачно и с бранью. — Помню его тоже по Омску, вышагивал, как генерал… А тут посидел с нами в монастыре, выпустили его, и пристроился в детскую колонию воспитателем. Беспризорников учит уму–разуму. Попросил я у него денег на дорогу, а он — на дверь. Не желаю вмазываться в историю. Подите прочь, товарищ… Назвал товарищем. Он вдруг сжал кулаки, кулаками постучал по столу и с яростной улыбкой, шепча сквозь зубы: — С плеча шашкой… По мокрицам… Прилипли к сырым местам. Сытно, уютно. Ничего больше не надо. На дверь мне, боевому офицеру… — Тихо, Бронислав, — попросил требовательно Трубышев, — будут вам и шашки в свое время. Недолго до войны. Как–то подумалось мне: то и дело подставляет Россия шею под меч Марса. С промежутками в двадцать — тридцать лет… Ужасный рок навис над русским народом. Каждые двадцать — тридцать лет. Возьмите прошлое столетие. Французская война, севастопольская, турецкая… В этом вот столетии японская, германская, гражданская. А в перерывах сами себе пускаем кровь дурную, видимо, ненужную… И опять запляшет на русской земле Марс с мечом… Вот тогда вам, Бронислав, эта злость пригодится. Потерпите… А пока — что ж — счастливого пути. — Но в чем и дело, у меня ни червонца лишнего в портмоне, — воскликнул умоляюще Мухо. — С тем и позвал вас, с тем, Викентий Александрович. — Но и у меня нет денег, — развел руками Трубышев. — Вы же знаете, что я конторщик фабрики, жалованья хватает только на хлеб да на кружку пива… А вам надо много. — Надо много, — согласился странно весело Мухо, — на дорогу через всю Сибирь, для перехода через границу. И деньги у вас есть. Он оглянулся — на маленькой эстрадке негромко и скучно, приплясывая толстыми ногами, запела «пивная женщина». Была она, как всегда, в красном длинном платье с разводами, с красными лентами в пышных волосах. На ногах туфли тоже красного цвета, с искрящимися застежками. Лицо неприметное и грубое, голос с хрипотцой, но душевный и мягкий. Черноволосый Оська Храпушин, тапёр трактира, понесся из коридора и с ходу утопил пальцы в белых и черных зубах пианино. Грохот музыки поплыл по зальцу, громче заговорили посетители, громче засмеялись, какая–то женщина, сидящая неподалеку, ахнула. Все так же глядя на певицу, на ее крашенный яростно птичий ротик, Трубышев спокойно сказал: — Вы мне чистое удостоверение личности, я вам — деньги. — А комиссионера пока не надо? — Комиссионер тоже нужен. И как можно скорее… Мухо захохотал, зажал тяжелой рукой чашечку, кинул ее к широкому грубому подбородку. Выпив, стукнул кулаком о стол, раскусил с хрустом мясо: — Вспомнил, как жрали мы баранину там, в степях у Кургана. Шел я в первой сотне под Ивановым–Риновым. Ох, и кромсали красных. Как тараканы разбегались. Шашками, из карабинов, по головам сапогами… Эх ты, черт! — воскликнул он. — Если бы гнать да гнать — до Москвы бы наш казачий корпус домчался… Послушали бы звон сорока сороков. А тут осели. Водка, перины, бабий визг, и баранина жареная–пареная, до блевоты, и пироги, и сметана кадушками. Обжирались, облапывались… Еле на коней позабирались через пару дней. Спьяну, знать, да с баранины и сам Иванов–Ринов, обалдуй, не в ту сторону взял направление. Как посыпались отовсюду вдруг снаряды. И–эх, вы… Куда только и подевался Иванов–Ринов, обалдуй, — повторил он угрюмо, посмотрел на Трубышева каким–то косым и нелюбезным взглядом. Притопывая ногами, негромко и так же безучастно ко всему окружающему, напевала Тамара: