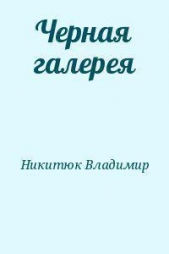Два капитана(ил. Ф.Глебова)

Два капитана(ил. Ф.Глебова) читать книгу онлайн
В романе Вениамина Каверина «Два капитана» перед нами проходят истории двух главных героев — Сани Григорьева и капитана Татаринова. Вся жизнь Саньки связана с подвигом отважного капитана, с детства равняется он на отважного исследователя Севера и во взрослом возрасте находит экспедицию «Св.Марии», выполняя свой долг перед памятью Ивана Львовича.
Каверин не просто придумал героя своего произведения капитана Татаринова. Он воспользовался историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера. Одним из них был Седов. У другого он взял фактическую историю его путешествия. Это был Брусилов. Дрейф «Святой Марии» совершенно точно повторяет дрейф Брусиловской «Святой Анны». Дневник штурмана Климова полностью основан на дневнике штурмана «Святой Анны» Альбанова – одного из двух оставшихся в живых участников этой трагической экспедиции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По той же причине — сильный жар и головная боль — я плохо помню, что я делал на Сухаревке, хотя и провёл там почти целый день. Помню только, что я стоял у ларька, из которого пахло жареным луком, и, держа курточку, говорил слабым голосом:
— А вот кому…
Помню, что удивлялся, почему у меня такой слабый голос. Помню, что приметил в толпе мужчину огромного роста в двух шубах. Одна была надета в рукава, другая — та, которую он продавал, — накинута на плечи. Очень странно, но куда бы я ни пошёл со своим товаром, везде натыкался на этого мужчину. Он стоял неподвижно, огромный, бородатый, в двух шубах, и, не глядя на покупателей, загибавших полы и щупавших воротник, мрачно говорил цену.
Помню, что, пробродив по рынку весь день, я променял рубашку на кусок хлебного пирога с морковкой, но откусил только раз — и расхотелось.
Где-то я грелся, заметив, что хотя мне самому уже не холодно, но пальцы всё-таки посинели. Пирог я спрятал в наволочку и всё, помнится, смотрел, не раскрошился ли он. Должно быть, я чувствовал, что заболеваю. Очень хотелось пить, и несколько раз я решал, что кончено: если через полчаса не продам, пойду в чайную и загоню курточку за стакан горячего чаю. Но тут же мне начинало казаться, что именно в это время явится мой покупатель, и я решал, что постою ещё полчаса.
Помнится, меня утешало, что высокий мужчина тоже никак не может продать своей шубы…
Пожалуй, я съел бы немного снега, но на Сухаревке снег был очень грязный, а до бульвара — далеко. Всё-таки я пошёл и поел, и, странно, снег показался мне тёплым. Кажется, меня вырвало, а может быть, и нет. Помню только, что я сидел на снегу и кто-то держал меня за плечи, потому что я падал. Наконец меня перестали держать, я лёг и с наслаждением вытянул ноги. Надо мной говорили что-то, как будто: «Припадочный, припадочный…» Потом у меня хотели взять наволочку, и я слышал, как меня уговаривали: «Вот чудной, да тебе же под голову!», но я вцепился в наволочку и не отдал. Мужчина в двух шубах медленно прошёл мимо и вдруг сбросил на меня одну шубу. Но это уже был бред, и я прекрасно понимал, что это бред… Наволочку ещё тянули. Я услышал женский голос:
— Узел не отдаёт.
И мужской:
— Ну что ж, так с узлом и кладите.
Потом мужской голос сказал:
— Очевидно, испанка.
И всё провалилось…
Ещё и теперь я сразу начинаю бредить, чуть только появляется жар. При тридцати восьми я уже несу страшную чушь и до смерти пугаю родных и знакомых. Но такого приятного бреда, как во время испанки, у меня не было никогда. Вот в просторной, светлой комнате я рисую картину — водопад. Вода летит с отвесной скалы в узкое каменистое ложе. Как хорошо! Как блестит на солнце вода! Какие чудесные зелёные камни!
Вот я еду куда-то в розвальнях, покрывшись овчиной. Темнеет, но я ещё вижу, как снег бежит из-под розвальней между широкими полозьями, — кажется, что мы стоим, а он бежит; и только по следу, который чертит сбоку упавшая полость, видно, что мы едем и едем. И мне так хорошо, так тепло, что кажется — ничего больше не нужно, только бы ехать вот так зимой в розвальнях всю жизнь.
Почему у меня был такой хороший бред, не знаю. Я был при смерти, дважды меня как безнадёжного отгораживали от других больных ширмой. Синюха — верный признак смерти — была у меня такая, что все доктора, кроме одного, махнули рукой и только каждое утро спрашивали с удивлением:
— Как, ещё жив?
Всё это я узнал, когда очнулся…
Как бы то ни было, я не умер. Наоборот, я поправился. Однажды я открыл глаза и хотел вскочить с кровати, вообразив, что нахожусь в детдоме… Чья-то рука удержала меня. Чьё-то лицо — забытое и необыкновенно знакомое — приблизилось ко мне. Хотите верьте, хотите нет — это был доктор Иван Иваныч.
— Доктор, — сказал я ему и заплакал от радости, от слабости. — Доктор, вьюга!
Он смотрел мне прямо в глаза — наверно, думал, что я ещё брежу.
— Седло, ящик, вьюга, пьют, Абрам, — сказал я, чувствуя, что слёзы льются прямо в рот. — Это я, доктор. Я — Санька. Помните, в деревне, доктор? Мы прятали вас. Вы меня учили.
Он ещё раз заглянул мне в глаза, потом надул щёки и с шумом выпустил воздух.
— Ого! — Он засмеялся. — Как не помнить?.. А сестра где?.. Как же так? Ведь ты мог тогда только «ухо» сказать, да и то лаял. Научился, а? Да ещё в Москву перебрался? Да ещё умирать вздумал?
Я хотел сказать, что вовсе не собираюсь умирать, — напротив, но он вдруг закрыл мне рот ладонью, а другой рукой быстро достал платок и вытер мне лицо и нос.
— Лежи, брат, смирно. Тебе ещё говорить нельзя. Немой и немой. Чёрт тебя знает, ты уже столько раз умирал, что теперь неизвестно: а вдруг скажешь лишнее слово — и готов. Поминайте, как звали.
Глава двенадцатая
СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР
Вы думаете, может быть, что, однажды очнувшись, я стал поправляться? Ничуть не бывало. Едва оправившись от испанки, я заболел менингитом. И снова Иван Иваныч не согласился с тем, что моя карта бита.
Часами сидел он у моей постели, изучая странные движения, которые я делал глазами и руками. В конце концов я снова пришёл в себя, и хотя долго ещё лежал с закаченными к небу глазами, однако был уже вне опасности.
«Вне опасности умереть, — как сказал Иван Иваныч, — но зато в опасности на всю жизнь остаться идиотом».
Мне повезло. Я не остался идиотом и после болезни почувствовал даже, что стал как-то умнее, чем прежде. Так оно и было. Но болезнь тут ни при чём.
Как бы то ни было, я провёл в больнице не менее полугода. За это время мы очень часто, чуть ли не через день, встречались с Иваном Иванычем. Но от этих встреч было мало толку. А когда я стал поправляться, он уже почти не бывал в больнице. Вскоре он уехал из Москвы. Куда и зачем — об этом ниже.
Удивительно, как мало переменился он за эти годы. По-прежнему он любил бормотать стихи. И я слышал, как однажды, выслушав меня, он пробормотал недовольным голосом:
К нам в палату приходили студенты, и он, оглядев их светлыми, живыми глазами, хватал одного за рукав и, читая лекцию, то отпускал, то снова хватал. Мы с ним вспомнили «старое время», и он удивился, что я ещё помню, как он делал из хлебного мякиша и ещё из чего-то кошку и мышку, и кошка ловила мышку и мяукала, как настоящая кошка.
— Иван Иваныч, а ведь после, как вы ушли, — сказал я, — ведь мы с сестрой всю зиму пекли картошку на палочках.
Он засмеялся, потом задумался.
— А это, брат, меня на каторге научили.
Оказывается, он был ссыльным. Как член партии большевиков, он был сослан на каторгу, а потом на вечное поселение. Не знаю, где он отбывал каторгу, а на поселении был где-то очень далеко, у Баренцева моря.
— А уж оттуда, — сказал он смеясь, — прибежал прямо к вам в деревню и чуть не замёрз по дороге.
Вот когда выяснилось, почему он не спал по ночам. Чёрную трубочку — стетоскоп — он, оказывается, оставил нам с сестрой на память. Слово за слово пришлось рассказать ему, когда и почему я удрал из детдома.
Он слушал очень внимательно и почему-то всё время смотрел мне прямо в рот.
— Да, здóрово, — задумчиво сказал он. — Просто редкая штука.
Я решил, что он думает, что удрать из детдома — редкая штука, и хотел возразить, что совсем не редкая, но он снова сказал:
— Не глухо-, а слухонемота, то есть немота без глухоты. Stummheit оhne Taubheit. И ведь не мог сказать «мама». А теперь извольте-ка! Оратор!
И он стал рассказывать обо мне другим докторам.
Я был немного огорчён, что доктор ни слова не сказал об этой истории, которая заставила меня удрать из детдома, и даже, кажется, вообще пропустил её мимо ушей. Но я ошибся, потому что в один прекрасный день двери нашей палаты открылись, сестра сказала: